|
14 июля 2008
Владислав Шувалов Перевод: Владислав Шувалов
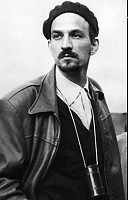 Сегодня, когда фильмы Ингмара Бергмана доступны к просмотру, когда выпущены книги о нём (и их можно прочесть в русском переводе), когда ему без устали выражают признательность кинематографисты и зрители с разными (иногда противоположными) культурными предпочтениями, когда его имя прочно и навеки вошло в летопись мировой истории ХХ века, никаких рекомендаций для представления его творчества не требуется. Кино Бергмана вошло в культурный обиход и стало общечеловеческой гордостью как живопись эпохи Возрождения или литература классицизма, как театр Шекспира, поэтика Аристотеля или музыка Баха. Кино самого знаменитого шведа в мире торжествует свою заслуженную победу.
Фамилия Бергмана от постоянного назывного употребления стала привычкой, нарицательным обозначением экуменического кино (а то и психологического авторского). Против Бергмана, бывает, восстают – и это нормально: любое явление, укореняющееся в культурном генофонде, обречено испытывать на себе вибрации новых волн. В случае Бергмана – это безопасно, поскольку истинно гениальное - незыблемо. Его критиковали многие - от революционеров шведского кино 60-х до дигитальных визионеров нового века за миссионерство, скупость, аскетизм, театральность. Но "театральность" реализовывалась посредством кинематографических приёмов. Ставка на крупные планы требовала кинематографической специфики актерской работы, равно как движение камеры, освещение, монтаж – они не были присущи театральной эстетике. От театра Бергман взял фундаментальное - внимание к человеку; ценность для Бергмана каждой личности на экране убеждает в ценности каждого из нас.
Интерес автора к человеку, его душевным пертурбациям, которые взывают бергмановского героя к любви, ненависти, страданию, стыду, прощению, опирается на художественный, и точнейший у Бергмана, аппарат фиксации чувств – от мимолетных ощущений до бури внутренних переживаний. Метафорическая сила его высказываний основана на духе протестантизма, приверженности национальной драматической традиции и мощного "зрительного осязания", которое сочетается у него с точным знанием предметного мира. Метод Бергмана опирается на полноту жизни как на источник чувств, но сами реалии вытесняются за пределы фильма, поэтому его картины понятны в любой стране, в них нивелированы сиюминутные детали и локальные привязки, и потому их обвиняют в скупости и аскетизме. Но в устранении всего лишнего проявляется сила божественной интуиции Бергмана, его умение видеть фильм со стороны (с небесной высоты, с исторической дистанции, кому как нравится). Отказываясь от наносного и внешнего, его фильмы обретают идеальную форму, сохраняя главное – переливы чувств и повороты мысли, которые являются самым верным выражением жизненных реалий.
Он слыл затворником, проживая десятилетия на острове Форё. Но в этом решении видится не стремление уединиться от пристального взгляда любопытствующих современников, а сохранить себя, свои чуткие настройки, полноценно и результативно использовать отпущенное время, защитившись от затягивания в воронку бесплодной светской жизни. Жан-Люк Годар говорил: "Для Бергмана быть одиноким – значит, ставить вопросы, а делать фильмы – значит, отвечать на них". Над этим высказыванием Бергман посмеивался. Его чувство юмора вообще было филигранным и завидным, так как исключало позёрство, и не было натужным. Он легко относился не к репрезентации себя и не к отклику на уколы окружающего мира, а к самой жизни, о чем лучше всего свидетельствуют его реалистические, но духоподъёмные и жизнерадостные книги - "Картины" (1990) и "Латерна магика" (1987).Бергман, по его признанию, долго учился профессии - в 50-е каждый фильм давался ему с трудом, он много конфликтовал и зависел от технического персонала. В стремлении "быть Бергманом" видится стремление "быть свободным". В 1968-м году он резюмировал, что для движения нет ничего важнее, чем быть лёгким на подъём: "Хочется не только оставаться лёгким физически, но и содержать хоть в относительном порядке свой беспорядочный духовный багаж, что для меня означает победить хаос". Беспорядочность, по мнению автора, вредит и ограничивает резерв художника: "Ты теряешь перспективу и попадаешь под влияние неясных импульсов, которые раздирают тебя в разные стороны". (Работая с материалами Бергмана, всё время испытываешь неимоверный соблазн цитировать его точные высказывания). Рациональность Бергмана похвальна и образцова. Даже в критикуемый им период 50-х он был поразительно сосредоточен и сконцентрирован на работе. Это качество – плодотворного многогранного труда - было присуще титанам прошлых веков, но постепенно утрачивается цивилизацией нашего времени, ориентирующейся на удовольствия и расслабленное состояние. Бергман в 1957-м году делает физически невозможное: он успевает снять два превосходных фильма (Земляничная поляна и На пороге жизни), поставить на сцене Мальмё два спектакля ("Пер Гюнт" Ибсена и "Мизантроп" Мольера), осуществить две телепостановки (Господин Шлееман сейчас придёт и Венецианец). И это всё, не считая ответной публичной активности, которую требовал всемирный триумф шедевра Седьмая печать, вышедший на экраны в том же 1957-м году. При этом, не снижая темп работы, Бергман исключает всякие послабления самому себе, не позволяя намёка на поспешность и халтуру. В 1966-м году в состоянии кризиса ("я был не совсем здоров, напуган и не уверен в себе") он снимает свое гениальное творение - Персона. Фильм снимался в студии и шёл тяжело, но по возвращении на остров Бергман не удовлетворяется рабочей версией и настраивает Биби Андерсон и Лив Ульман переделать 75 процентов фильма.
Произнеся имена бергмановских актёров, а помимо Ульман и Андерссон к таковым можно отнести Гуннара Бьорнстранда, Эву Дальбек, Харриет Андерссон, Макса Фон Зюдова, Эрланда Йозефсона, Ингрид Тулин, надо отметить, что Бергман обладал магическим свойством притягивать и раскрывать таланты, которые потом, входили в ближний круг и становились подобием семьи – единомышленниками, работавшими с ним из года в год, что характеризует Бергмана не только как уникальную творческую личность, но и глубоко порядочного человека.
После ста двадцати театральных постановок и шестидесяти кино- и телекартин в возрасте 84-х лет он снимает свой последний фильм Сарабанда, творческий процесс которого оказался запечатлён шведским телевидением. Благодаря документальному фильму О "Сарабанде мы можем наблюдать Бергмана в его самый поздний период – и вновь восторгаться, наблюдая за работой великана эпохи. Он по-прежнему целеустремлен, внимателен и зорок. Бергман дотошно объясняет роль каждому актеру, глаза в глаза, выбирая нужные слова и доводя актера до предсъёмочной готовности, когда можно сказать: "Мотор!". Он тонко шутит, жестикулирует. Человеку его возраста нелегко двигаться, но мы часто видим его на ногах. Если того требует сцена, и актёр должен упасть, Бергман сам (!) показывает, как надо падать. Режиссёр, не делегируя главную роль ассистентам и помощникам, собственноручно курирует пространство фильма – от его взора не ускользает ни один предмет. Он работает и душой, и головой, и руками так, как работали древние мастера ваяния и зодчества.
Бергману было суждено прожить долго и работал он почти до конца дней. Его киноактив включает мелодрамы, комедии, фильмы с религиозным содержанием и историческим антуражем, семейно-биографические ленты и бытовые истории, поднимавшиеся до уровня философских притч и экзистенциальных драм. В разные периоды Бергман был разным, но один из самых точных образов, который накладывается на образ самого Бергмана – это профессор Борг, главный персонаж шедевра Земляничная поляна. Кажется, что образ старого врача, созданный кумиром юности Виктором Шёстромом, как нельзя лучше портретирует режиссера – умудренного опытом пожилого господина, сохраняющего холодный аналитичный ум, которым он осваивает границы человеческого космоса, мучаясь в его бескрайности одиночеством и спасаясь лишь воспоминаниями и работой. Несмотря на то, что Бергмана почти год как нет с нами, кажется, что он по-прежнему живет затворником где-то на далёком загадочном острове, погруженный в думы о вечных вопросах. Ответы Бергмана позволяют облегчить бремя нам, запертым в клетке времени и пространства простым смертным, которые вглядываются во мрак внешней бесконечности, как в бездну, не отшатываясь от края, и веря в то, что в роковой момент душа раскроет заветные крылья.
|