
Иван Денисов
Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.
Читать далее
|
|
|
23 декабря 2010 | 6773 просмотра Константин Селиверстов |
 В последнее время я стал широко известным режиссером какого-то чрезвычайно тошнотворного направления с крайне непривлекательным названием (поэтому я его здесь даже не привожу). Обо мне пару слов написала серьёзная центральная газета "Известия". Цитирую по памяти: "От Селиверстова ждали голых женщин, а оказалось, что фильм о смысле жизни" (конец цитаты). Один очень посещаемый интернет портал сообщил своим читателям, что после выхода фильма Селиверстова Женитьба, Гоголь перевернулся в гробу. Эта информация была со ссылкой на первоисточник.
Телеканал РТР полгода с невероятной тщательностью монтировал обо мне передачу. В результате она была проиллюстрирована тремя фрагментами. Первые два - были из фильма, который называется Я искушен в любви и в чистом искусстве, а третий фрагмент был почему-то из фильма Фанни и Александр. Мне потом звонили приятели. Они говорили: "Первые два отрывка были смешные, а третий вроде даже неплохо снят. Не подскажешь, кто оператор?" Я говорил: " Свен Нюквист". "О! – восклицали приятели, - Судя по фамилии, видимо, гастарбайтер. Где ты находишь таких дешёвых операторов?".
Пару лет назад меня включили в программу самого престижного в России Московского международного фестиваля, где я буквально в пяти шагах видел живого Михалкова. Не успел я, воодушевлённый, вернуться в родной Питер, как мне позвонили с киностудии Ленфильм и попросили провести у них мастер-класс. Я говорил два с половиной часа о своём творчестве, цитируя Бергмана, Феллини и Вуди Аллена. После чего мне был задан один вопрос: "Скажите, пожалуйста, почему вы не используете штатив?" Я ответил, что штатив я использую, но не по прямому назначению. Меня проводили аплодисментами… Вечером мне звонили друзья с одним и тем же идиотским вопросом: "А Герман был?"
Я стал очень популярен. По идее я должен был хорошо зарабатывать. По крайней мере, на обед в "Макдональдсе". Пришла слава, но не пришли деньги! У России, как всегда, свой особый путь… |
Читать полностью
|
|
6 декабря 2010 | 6271 просмотр Нина Цыркун |
Издательство "Другое кино" выпустило в свет книгу Нины Цыркун Раненый зверь, посвященную творчеству Пьера Паоло Пазолини. Вы можете познакомиться с главой из этой книги, рассказывающей о специфическом витке в работе самого маргинального из итальянских классиков: трилогии из фильмов Декамерон, Кентерберийские рассказы и Цветок тысячи и одной ночи. Синематека выражает признательность Игорю Лебедеву за помощь в подготовке публикации.
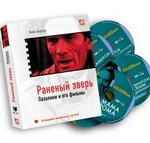 Размышляя над тем, почему после "поэм отчаяния" Пазолини обратился к красочным экранизациям ренессансной классики и арабских сказок, нельзя не вспомнить и историю с его обидой на критиков, выбравших своим фаворитом на Венецианском кинофестивале самый богатый, самый мощный фильм - Сатирикон Феллини. Возможно, тайное соперничество с Феллини спровоцировало выбор литературного материала его следующего фильма (1971), открывшего "трилогию жизни" - Декамерон Боккаччо. И в противовес Феллини, который в своей барочной визуальной фантасмагории на основе отрывков из произведения Петрония Арбитра довольно мрачно воссоздал атмосферу заката Римской империи, Пазолини представил новеллы Боккаччо в праздничном гротескном реалистическом свете. Он с удовольствием погрузился в образную систему народной карнавальной культуры, той особой эстетической концепции бытия, которая была свойственна ренессансу с его реабилитацией плоти как реакции на аскетизм средневековья.
Подобно тому, как Боккаччо создал свою феерию после эпидемии чумы 1348 года, унесшей на тот свет его отца и дочь, Пазолини обратился к его озорным сюжетам после тяжелой болезни и нервотрепки, связанной с гонениями на Теорему и Свинарник. Пазолини почувствовал себя свободным и, следуя евангельскому завету, перестал думать о завтрашнем дне. Свобода подарила радость жизни, прежде угнетенную тревогой. А тревогу он связывал с мелкобуржуазным сознанием, проникнутом безверием. Пазолини будто начинал жизнь с новой страницы, примиряясь с миром и отказавшись от мрачных видений социальной антиутопии, побеждая страшное смехом и весельем; если и безумием, то праздничным. "Что делают, коснувшись дна? – спрашивал он и отвечал: - Выныривают и – сначала, если есть силы. Обычно в молодости, в зрелости такие силы есть: энергия, желание жить, ощущение важности жизни…" |
Читать полностью
|
|
1 декабря 2010 | 8754 просмотра Ксения Косенкова |
 Не так уж часто исследователь кино сам по себе становится объектом интереса, сопоставимого с вниманием к его работам. Лотте Айснер — одна из немногих в этом ряду. Ее жизнь, полная драматичных событий, оказалась тесно связана с двумя важнейшими периодами в истории немецкого кино, а также с работой парижской Синематеки в наиболее яркий период ее развития. Для многих Айснер стала не просто исследователем, но знаковой фигурой, "Мнемозиной" кино. В 1974 году она получила высшую кинонаграду Западной Германии "Deutscher Filmpreis" с выразительной формулировкой: "За выдающийся личный вклад в немецкий кинематограф на протяжении многих лет".
Лотте Хенриетте Айснер родилась в 1896-м году в состоятельной еврейской семье. Изучала историю искусств, философию и археологию в университетах Берлина, Фрайбурга, Мюнхена и Ростока. В 1924-м году она защитила диссертацию по древнегреческой вазописи и уехала в Италию для участия в археологических раскопках. Вернувшись в Берлин, Айснер стала писать обзоры художественной жизни для изданий "Literarische Welt" и "Berliner Tageblatt". В 1927 году началась ее карьера кинокритика в ежедневной газете "Film-Kurier". Айснер не просто оказалась первой женщиной на этом поприще в Германии — она быстро вошла в число самых заметных и влиятельных критиков наряду с Гербертом Иерингом, Зигфридом Кракауэром, Куртом Пинтусом, Рудольфом Арнхеймом, Вилли Хаасом, Белой Балажем. Именно в этот период и благодаря этим людям, чьи исследовательские интересы одновременно лежали в самых разных культурных областях, кинокритика в Германии превращалась в серьезную дисциплину. К моменту начала работы Айснер в "Film-Kurier" немецкое кино уже состоялось как выдающееся явление (сама Айснер позднее датировала конец "классического периода" его развития 1925-1926 годами). За несколько лет работы в газете Айснер сблизилась со многими ярчайшими деятелями кино: ее дружба с Фрицем Лангом, например, продолжалась вплоть до его смерти в 1976 году. |
Читать полностью
|
|
10 ноября 2010 | 6663 просмотра Лотте Айснер |
 Несмотря на появление звукового кино, я по-прежнему убежден, что сам по себе текст не имеет слишком большого значения в фильме. Что действительно важно, так это впечатление от изображения. Поэтому и сегодня я утверждаю, что кинорежиссер в гораздо большей степени причастен к созданию фильма, чем автор сценария или актеры.
Г.В. Пабст. "Le role intellectuel du Cinema", Париж 1937
Случай Пабста поистине уникален. Как кинорежиссер он одновременно удивляет и разочаровывает. Поразительно, как создатель Ящика Пандоры или Трехгрошовой оперы мог снять такой нелепый фильм, как Процесс.
Пабст полон противоречий; еще до 1930 года это неоднократно отмечали современные ему критики. Некоторые прославляют его интуицию, его остроумие, глубокое понимание психологических факторов и подсознательного. Благодаря всем этим качествам он использует камеру так, словно речь идет о рентгеновских лучах. Одни критики воспринимают его как страстного исследователя человеческих душ, поглощенного своими открытиями, другие, как, например, Пазинетти, наоборот, видят в нем лишь расчетливого наблюдателя. Потамкин в "Close Up" высказывает сожаление относительно того, что Пабст не глубоко анализирует проблемы кино, а лишь скользит по поверхности сюжета. Что истинно во всех этих противоречивых утверждениях?
В одном из номеров итальянского журнала "Cinema" за 1937 год критик заявляет, что Пабст хотя и любит работать с психологическими темами, тем не менее, всегда стремится к тому, чтобы сделать их как можно более доступными для зрителя. Вероятно, это самое лучшее объяснение его метода. Оно также позволяет понять, почему кое-что в его манере, например, в том, как он трактует связанные с инфляцией сцены в Безрадостном переулке, кажется нам таким дешевым и почему, несмотря на его талант визуалиста, нам кажется, что психоаналитические проблемы в Тайнах одной души Пабст интерпретирует слишком поверхностно. |
Читать полностью
|
|
14 апреля 2010 | 4867 просмотров Фолькер Шлендорф, Клаудия Кардинале |
.
Пять воображаемых сцен Фолькера Шлёндорфа
 Сцена первая: монтажная в подвальном помещении, Швабинг, середина шестидесятых
Сцена первая: монтажная в подвальном помещении, Швабинг, середина шестидесятых
В слабо освещенном, похожем на склеп подвальном помещении стоит монтажный стол, по некоторым сведениям ранее принадлежавший Лени Рифеншталь. Молодой человек – тип романтического немецкого юноши с печатью идеализма, экстаза и рассудка (или скорее безрассудства) на высоком лбу – показывает отрывки из одного из своих первых короткометражных фильмов. Он только закончил съемки в каменоломне неподалеку от селения Святой Маргаретен в Бургенланде.
"Где это?"
"К востоку от Вены, на озере Нойзидль, почти на венгерской границе. Вы должны там побывать! Села, поселки и ландшафты как из девятнадцатого века. Низкие дома, крытые тростником и выбеленные известкой, выстроены в ряд вдоль широких и пыльных сельских улиц. Все пропитано удивительным восточным духом".
Собеседник молодого человека несколькими годами старше его это, конечно, я. Я только что вернулся из Парижа, где осваивал профессию. Один из друзей посоветовал мне обратиться к Вернеру, когда я искал место для съемок фильма Молодой Тёрлесс по роману Роберта Музиля. |
Читать полностью
|
|
|