|
|
|
|
9 октября 2008
Владислав Шувалов
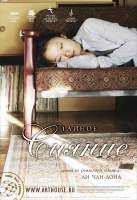 Фильм корейского режиссера Ли Чхан Дона с того момента, как оказался в поле зрения фестивальных эрудитов, попал в самый выигрышный ряд. Он очутился в одной обойме с видными духоборческими картинами последних лет. Наряду с фильмами Безмолвный свет, Изгнание, Траурный лес, Тайное сияние отражает симптом общего невроза, и пусть весьма спорно, но всё-таки героически, пытается нащупать связь между отдельной судьбой и высшими сферами.
Ли Чхан Дон, давно вынашивавший замысел Тайного сияния, смог обратиться к его реализации только, когда сложил с себя полномочия министра по культуре и туризму Республики Корея. Из трёх его полнометражных фильмов в нашей стране наибольшее распространение получил Оазис (2002). Душераздирающая мелодрама о любовниках-инвалидах выявила основной мотив творчества Ли - поиск любви там, где её, казалось бы, нет и в помине. В "Оазисе" режиссер смог зажечь любовью жизнь девушки, разбитой церебральным параличом, однако исходные условия Тайного сияния оказались ещё более изощрёнными, а задача по извлечению чудодейственного света - невыполнимой.
…После кончины мужа вдова Ли Син Э, вопреки воле своих родителей, покидает Сеул и вдвоем с малолетним сыном переезжает на постоянное местожительство в маленький городок – Мирян, родину мужа. Имеющая музыкальное образование, она открывает класс по обучению игры на фортепиано – параллельно обустраивает быт, знакомится с людьми, воспитывает мальчика, который не очень-то хотел переезжать. По городу идёт слух, что приехавшая из столицы женщина – при деньгах: она планирует купить землю под строительство частного дома. Однажды, поздно вернувшись домой, мать не находит сына – телефонный звонок сообщает, что ребёнок похищен, и за его жизнь требуют выкуп…
Фильм не ориентирован на детективную интригу, поэтому можно сказать сразу, что матери не суждено вернуть ребёнка. Экспликация женской трагедии фокусирует всё внимание на героине и ставит перед актрисой сложную задачу – передать горе матери и не сфальшивить ни единой нотой. Актриса Чон До Ён с ролью справляется: драматизм её исполнения неподделен, картина психического расстройства убедительна. В награду за точно созданный образ страдающей женщины актриса – от Гонконга до Канн - собирает все призы "за лучшее исполнение женской роли". Но в то же время актриса, пребывая в эпицентре фильма, получает карт-бланш на аффектированное изображение драмы. После потери близких людей пианистка пытается обрести веру в кругу христианских сектантов, но эта попытка не приносит избавления от муки утраты. Горечь утраты находится за пределами понимания - остается лишь следить за контактом замкнувшейся в себе женщины с внешним миром.
Второй важнейший герой фильма – о чём критики умалчивают почти повсеместно - простодушный холостяк Чжон Чан. Эту роль исполнил один из известнейших актёров современной Кореи Сон Ган Хо (Шири, Объединенная зона безопасности, Сочувствие господину Месть, Дневник убийцы, Хост). Его герой влюбляется в незваную гостью Миряна в самом начале фильма и стоически проносит своё чувство до последнего кадра. Образ Чжон Чана позволяет не только разнообразить настроения фильма, но и моделирует отношение к чужой трагедии со стороны обычных людей: как реагировать на срывы человека, пребывающего в глубочайшей депрессии, в каких ситуациях можно шутить, в каких – жалеть, и надо ли вообще пытаться его спасать? Весельчак Чжон Чан всё делает невпопад, но при этом, следуя по пятам за любимой женщиной, выглядит верным доказательством присутствия Бога, пославшим несчастной ангела.
Ставка на героиню, откровенность её мучений, безвыходность ситуации, да и само занятие персонажа позволяют провести аналогии с фильмом Михаэля Ханеке Пианистка, хотя внешне фильмы едва ли не противоположны. Пианистки – существа утонченные, мнительные, субтильные. У Ханеке музыкантша, не реализовавшаяся как мать и жена, обрушивает холодную ярость на саму себя, что объяснимо с точки зрения европейского сознания со свойственной ему рефлексией повышенных обязательств. На Востоке, где человек является песчинкой общей благодати, с самим собой воевать не принято, и пианистка Ли Чхан Дона, лишившаяся материнства и супружества, обращает ярость исступления вовне, бросая вызов Богу.
Религиозный аспект, явленный не в традициях кино Бергмана, т.е. с перспективой чуда, а в условиях реалистической приземленности, выглядит тщедушно. У Бергмана, каким бы безнадежным мизантропом он иногда не казался, всегда в резерве припасен один шанс для спасения души. В фильме Ли Чхан Дона чуду места нет. Люди, нашедшие успокоение в религиозных песнопениях и коллективных мольбах при трезвом, если не сказать циничном, наблюдении, какое предложено размеренным повествовательным стилем, выглядят жалко и не вызывают ни сочувствия, ни побуждения к разговору о вере. Хотя, с другой стороны, если этот опиум на какое-то, пусть и весьма непродолжительное время помог женщине заглушить горе, то, пожалуй, он имеет право на существование. В конце концов, если общество анонимных алкоголиков способно помочь запутавшемуся индивиду избавиться от недуга, то и душевный покой вполне можно искать и обрести в обществе протестантов. Это вопрос плеча, единения и взаимной поддержки, но никак не претензий к Богу.
Именно реалистический дискурс, являющийся инструментом прямого зрительского воздействия, и оставляет от замысла ощущение незавершенности. Автор досконально – и весьма убедительно - демонстрирует страдания женщины, но при этом не предпринимает ни единого усилия, чтобы – пусть и на правах демиурга – попытаться разрешить остолбенение души. Скорбный гештальт не закрыт, фильм ничем не заканчивается. Нельзя сказать, что автор промахнулся, поскольку непонятно, что было целью, во что он метил. На первой странице пресс-релиза режиссер говорит: "Я хочу, чтобы актеры погрузились в свои роли, растворились в них". Хорошо, но что дальше? Тот вывод, который напрашивается - что тяжесть страданий не облегчить духовностью, что скорбь излечить нельзя - малоутешителен. Но если траурный лес всё равно придётся пройти, как испытание, от начала до конца, да ещё без гарантии выхода к свету, то тогда и сияния в фильме нет – ни тайного, ни явного. Одно лишь название.
|
|
|