
Иван Денисов
Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.
Читать далее
|
|
|
|
|
25 февраля 2009
Ян Левченко
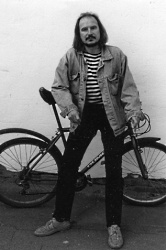 В этом фильме, точно передающем обескураженность Беккета, попавшего на оскудевшую советскую почву, не происходит ничего. Вернее, все возвращается к организующей фразе "Уйду я от вас", которую безымянный герой то и дело произносит, обращаясь к редким обитателям пустого города. Если Годо должен прийти и не приходит, то человек, выпущенный из лечебницы, все собирается и собирается уйти. Правда, в итоге ему это удается – возможности вписать себя в город и его жизнь исчерпаны. Андрей Плахов писал в статье, вошедшей во второй том книги "Режиссеры настоящего", что "такого Петербурга мы еще не видели". Действительно, разве что снятый двумя годами ранее Опыт бреда любовного очарования Валерия Огородникова передает настроение города, иссушенного болезнью, впадающего в лихорадочную испарину. Там нет улиц, но есть лечебница, какая может быть только в образцовом петербургском кино – да, том самом, где все кашляют в темном коридоре.
В Счастливых днях возникает очень важное ощущение рубежа 1980-1990-х. Суетливое высвобождение энергии в перестроечную эпоху невольно паразитировало на инерции загнивающей, но все еще реальной Страны Советов. Все функционировало, хотя явно летело к чертям. Об этом догадывались, но не задумывались. В советского человека крепко внедрили представление о том, что такая растительная беспечность – единственный залог выживания в обществе, где никто себе не принадлежит. Как только все рухнуло в буквальном смысле, возникло ощущение пустоты не на экзистенциальном, а на физиологическом уровне. Проще говоря, земля ушла из-под ног. В Счастливых днях это реализовано с высокой достоверностью. Говорят, что город здесь – как после блокады. Не совсем так: это и есть блокадный Петербург. Память ассоциаций говорит нам, что блокада была зимой. Но стоит пересмотреть монтажный шедевр Сергея Лозницы (2005), чтобы увидеть, как страшен залитый солнцем и засыпанный пылью город в летние месяцы. Балабанов работает на подножной фактуре – в районе улицы Восстания (в одной из сцен камера провожает объективом отчетливую табличку "Митавский переулок") и на Волковом кладбище с его немецкими надгробиями. Город заколочен в буквальном смысле слова – вышедший из больницы герой, блуждающий в поисках комнаты, постоянно попадает в квартиры, где есть заделанные двери. В квартире своей случайной любовницы Анны за такой дверью обнаруживается огромная коробка с обрушенными перекрытиями. В верхнем углу коробки – маленький прямоугольник дверного проема с маленьким человеком. Большой и бесприютный мир встречает его. И он снова чувствует, что никому не нужен.
Ленинград, еще не переименованный в Петербург, схож у Балабанова с тем городом, куда несколько раз мучительно возвращался Осип Мандельштам, "шевеля кандалами цепочек дверных". Понимая, что старый город ушел из жизни навсегда, он делал вид, что снова войдет в эту реку: "У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса". Но река эта – он знал наперед – окажется мертвой. Неву часто сравнивают с Летой – в русской поэзии есть целая цитатная традиция. Балабанов ее ни разу не показывает – Фонтанка не в счет. Фильм избегает буквализма общих мест, но добивается воспетой Мандельштамом "радости узнавания". Это горькое чувство. Слом времени произошел. Прошлого не вернуть. Герой пережил амнезию, и некому подарить ему то, что от него осталось. С этим ощущением удивительно точно корреспондирует чудовищный текст Даниила Хармса, написанный в 1937 году в размере детской считалки.
Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком <…>
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес
И с той поры,
И с той поры
И с той поры исчез.
Сергей Сергеевич, он же Петр, он же Боря, убогий, никому не нужный отец ребенка, которого так никогда и не увидит, закрылся в гробу старой лодки и поплыл по течению Невы, как Уильям Блейк в еще не снятом Мертвеце Джима Джармуша, на свой берег мертвых. Все свои деньги он внес за комнаты и углы, в которых никогда не жил. Ему нечем заплатить Харону, который перевозит тела с готовой отлететь душой. Он плывет один. Лодка неслышно ударяет в песок. Человек в пальто входит в густой лес. Становится темно. Делается метель. В сумерках тает белеющая фигура. Когда-нибудь она выйдет из леса в другой одежде и с другим лицом. Это будет землемер К.
Фрагмент фильма Замок
"Петербург Достоевского. Следующая станция – замок Кафки". Балабанов развивался последовательно. От переживания личного абсурда он логично переключается на абсурд власти, который в России упорно адаптируется тактиками выживания, пресловутым "здравым смыслом" по-русски. Западная фактура, подчеркнутая отстраненность Замка только помогает понять, что особость – это миф, культивируемый властью и подданными. Кафка писал не о Германии, не о Чехии и не о ветхозаветном государстве евреев. Точно так же и Балабанов использует первоисточник, чтобы совершить операцию остранения – показать привычное в непривычных обстоятельствах. Сделав свой самый строгий и самый аккуратный фильм (может, совместное производство с немцами повлияло), Балабанов возвращается в Россию и через ухватистого, крепкого и потустороннего Трофима в одноименной короткометражке 1995 года подступается к русской душе. Не замараться об это дело было сложно. Балабанов был к этому готов. Если в ранних картинах он с мучительным удовольствием конструировал математическую, изначальную пустоту и заполнял ее случайными предметами, то начиная с Брата пустота обнаруживается внутри – в душе, в сознании, в личной истории. Парадокс заключается в том, что вещей вокруг все больше, а порядка нет. Музыка, оружие, одежда, пластинки, автомобили, фотокарточки, архитектурные чертежи, бутылки водки, шикарные квартиры, ресторанная еда, камеры слежения. Но пространства не получается. Получается пугающая пустота. Вот ее-то с тех пор Балабанов и рассматривает с упорством и мужеством человека искусства.
2 страницы

 1 2 1 2
|
|
|
|