Аватары Холмса, Персея и Гришковца в кино десятых годов.
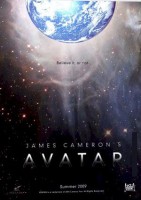
Кино, которым началось новое десятилетие, с необходимостью создавалось в прошлом. Граница эпох условна, тем более, в такой затратной индустрии, занятой многолетним возведением дредноутов. Киностудии – они ведь, и правда, как верфи. Иногда какой-нибудь из дредноутов разворачивается и дает залп всем бортом. Если посудина при выстреле не опрокинется, ее ждет особенный успех и ее могут назвать Аватар. Имя, становящееся нарицательным только после того, как притворилось собственным. Вроде Ксерокса в отдельно взятой стране. Великая революция кино, произведенная Аватаром, есть все-таки революция дредноутов. То есть революция сверху. Ну что ж, тоже дело. Джеймс Камерон, наконец, обновил основательно залежалый товар, который пользовался устойчивым спросом исключительно за счет крупных вложений в рекламу, политики прокатчиков, той круговой поруки, что зовется рынком. Теперь спрос выгнулся и скакнул по экспоненте. А как быть иначе, если это и есть "сбыча мечт"? Сначала тебя долго убеждают, в чем твоя мечта, настраивают горизонт запросов. Потом - бац! – и мечта сбывается. Ура.
В преддверии векового юбилея кинематографа, то есть в первой половине 1990-х, журнал "Киноведческие Записки" публиковал из номера в номер дискуссию на тему "Будет ли у кино второе столетие?" В ней принимали участие киноведы и режиссеры – Кристиан Метц и Бернар Эйзеншитц, Жан-Люк Годар и Душан Макавеев. Представительная набралась компания. Симптоматично, что в ней не оказалось никого, кто бы мог сказать что-то содержательное в заданном футурологическом ключе. Ни крупных воротил-продюсеров, ни разработчиков программных продуктов, ни каких-нибудь безымянных инженеров-экспертов, способных прокомментировать сложившуюся на тот момент ситуацию перехода кинематографа в новое технологическое качество. Разговор шел в старом добром ключе авторского кино – того, что так любят смотреть критики, разъезжая по фестивалям и с важным видом обсуждая "тенденции".
Читать далее