Протазанов в этой романтической эпохе существует наособицу. Он – ироничный скептик, причём скептик классического европейского склада. В нашем кино он европеец более, чем кто-либо из его современников. Недаром он, эмигрировав, так быстро и уверенно вошёл в европейское кино (кстати, своим первым наставником в кинематографическом ремесле считал его самый французский из режиссеров -
Рене Клер), а тот же Луначарский, желая подчеркнуть профессиональную изощрённость высоко ценимого им Протазанова, называл его именно по-французски: "дю метье". Главный объект протазановской иронии – претензия приёма, системы приёмов на тотальное всевластие. Произвольно устанавливаемые людьми правила игры для него абсурдны (в одних случаях комически, в других – трагически) перед лицом единственно достойного игрока – постоянно и прихотливо изменчивой живой жизни.
Не потому ли одержимое следование назначенной роли вызывает у Протазанова язвительную усмешку – от Германна, принимающего наполеоновские позы, до Принца и Парикмахера, которые, будучи вынуждены поменяться местами, без остатка растворяются в новой роли в фильме с красноречивым названием
Марионетки ? И, напротив, горькое сожаление вызывают у него те герои, кто терпит поражение в борьбе с навязанной ролью – здесь исход зачастую трагичен, как у мозжухинского пастора в первой серии
Сатаны ликующего, у Марютки с поручиком в
Сорок первом или глупенькой Ларисы-Алисовой в
Бесприданнице. Впрочем, в последнем случае сюда опять примешивается ирония – ведь героиня начинает входить во вкус навязанной роли, не выдерживает соблазна, как и героиня "Анны на шее" в
Чинах и людях. Из живого человека и та, и другая превращаются в вещь.

Потому-то в кинематографе Протазанова напрочь отсутствует сентиментальная жалость к "маленькому человеку" - её скорее можно обнаружить у раннего Бауэра в
Немых свидетелях или
Дитяти большого города (не пародирует ли последнюю финал
Анны на шее ?). Недаром "чеховский альманах"
Чины и люди - одна из самых мрачных и злых его картин, наполненных не лицами, а масками-харями. Демонстративно декоративное, то бишь – антинатуральное, почти экспрессионистское пространство этого фильма целиком соответствует и названию, и эпиграфу: "Россия – страна казённая". Безропотный "маленький человек" - тоже роль, чин. Есть, конечно,
Человек из ресторана, но ведь это выполнение срочного заказа на "коммерческий боевик", который должен немедленно окупить понесённые "Межрабпом-Русью" убытки от сгоревшего помещения на Нижней Масловке – в другом случае Протазанов ни за что не стал бы снимать в своём фильме главную звезду фабрики Веру Малиновскую с её натужно-кокетливой невинностью. Да и то – бунт героя, по определению невозможный в одноимённой повести Ивана Шмелёва, для Протазанова всё-таки более органичен. В противном случае Михаил Чехов был бы здесь петрушкой-марионеткой не менее отталкивающей, чем Никита Балихин-Карандышев в
Бесприданнице.
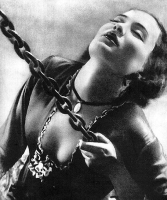
Отсвет живой жизни на пространство протазановского кинематографа бросают персонажи другого рода. Те – кто вне предписанных правил игры, вне системы. Те, кто от начала и до конца остаются самими собой.
Таковы (особенно в первое десятилетие его творчества) женщины.
Вера Орлова – воплощённая живая жизнь, мимо которой проходит Германн, и перед которой не может устоять отец Сергий – как смотрелась она в 10-е на фоне бледных экранных теней: заламывающих руки анемичных героинь
Веры Холодной или Веры Коралли или вампирических женщин Натальи Лисенко!
Ольга Гзовская – воплощение врождённого, естественного, а потому и неотразимо притягательного человеческого достоинства в
Горничной Дженни, Гзовская, для которой Протазанов на всю жизнь остался идеалом режиссёра.
Юная
Вера Марецкая, открытая для кино Протазановым в
Закройщике из Торжка - какой задорной улыбкой отвечает на все перипетии судьбы её провинциальная Золушка!
"И Блюменталь-Тамарина", - добавил Пётр Багров. Да, разумеется, Пелагея Дёмина из
Дона Диего и Пелагеи, улыбчивая деревенская праведница, одним присутствием своим в кадре обнажающая абсурд и бесцельность казённой государственности, по Протазанову неизменной.
Из мужчин – прежде всего
Николай Баталов в
Аэлите. От одного сверкания баталовской улыбки (не говоря уж об органичности жеста – как этот Гусев трясёт руку владычице Марса-Солнцевой!) Марс с его обитателями вопреки первоисточнику, роману Алексея Толстого, выстроенный Протазановым буквально как некий заповедник "авангардизма" (ау, "Труба марсиан"!), оказывается тем, чем и был на самом деле - не более чем разборной декорацией. Потому и революция, устроенная Гусевым на Марсе, есть не что иное, как обрушение декорации при столкновении с живой жизнью – не более и не менее.
За живой жизнью у Протазанова всегда остаётся последнее, ироническое, как правило, слово. Так в последнем кадре
Чинов и людей ставит точку единственный подлинно живой персонаж фильма – собачка из
Хамелеона, поднимающая ножку на полосатый казённый столбик.
Попытки кардинально изменить жизнь по собственному усмотрению с точки зрения Протазанова не имеют смысла. Ибо живая жизнь, пребывающая в постоянном движении, и есть для него постоянный источник действительного изменения. Прежде всего – изменения форм, в которых она проявляется.
Эйзенштейн во второй половине 20-х манифестировал "презрение к материалу". Протазанов с тем же успехом мог манифестировать обратное – "презрение к приёму". Но именно его исходная установка делает манифестирование как жест для Протазанова невозможным. Та "всеядность мастера, приемлющего всё, что может дать ему материал для занимательного повествования", которую отмечал Алперс, (а вслед за ним, уже в 60-е, Нея Зоркая в этапном, в общем-то, для нашего киноведения портрете Протазанова), есть на самом деле полное доверие к материалу. Именно разнообразие материала подсказывает, предлагает здесь соответствующие приёмы его обработки.
Пытаясь найти определение роли Протазанова, та же Зоркая предлагала считать его не "традиционалистом", а – "неноватором". И в этом есть рациональное зерно, при том, что открытий в разных областях кино Протазановым было сделано предостаточно. Он открывал не только актёров (тех же Орлову, Марецкую, Баталова, Ильинского, Кторова, Жарова – список можно длить и длить) как персонажей, востребованных той или иной эпохой; он открывал новые приёмы (чего стоит легендарная съёмка с движения в сцене прохода Германа по покоям графини – неискушённая критика жаловалась: в кадре начинает двигаться интерьер). Он открывал новые кинематографические жанры – прежде всего, как легко догадаться, создал в 20-х национальную "высокую комедию". Наконец, именно Протазанов создал в нашем кино уникальный по глубине образ гражданской войны в
Сорок первом (который Луначарский с полным основанием назвал шедевром) и практически не замеченном первом звуковом фильме
Томми.