Вы работали с Кириллом Серебренниковым, сейчас сотрудничаете с Андреем Прошкиным, который снимает Орду. А еще с кем-то из молодых режиссеров хотели бы поработать?
Я хотел бы поработать со многими, но здесь есть проблема: молодые ориентированы на молодых. И так, наверное, правильнее. Потому что я молодым принесу груз своего времени, который им, может быть, не слишком интересен. Хотя вот с Серебренниковым у меня не было вообще никаких проблем, мы понимали друг друга с полуслова – это при том, что Кирилл абсолютно другого склада человек, чем я. Какой будет результат с Андреем Прошкиным – я пока не знаю. Надеюсь, что добротный. Я, в принципе, хотел бы рискнуть – сделать картину с дебютантом, с совсем молодым человеком, не отягощенным опытом удач и поражений. Это был бы самый радикальный вариант. При том, что этот молодой человек понимал бы, о чем я пишу… Не знаю, представится ли мне такая возможность.
А продолжение сотрудничества с Сокуровым вы планируете?
Я ничего не планирую, потому что уже долгое время живу лишь сегодняшним днем. Александр Николаевич сейчас преподает в университете Нальчика, это благородное дело, весьма неожиданное для меня… Его бы с удовольствием приняли как мастера в Москве или Питере, но он решил летать именно на Кавказ, чтобы преподавать ребятам режиссуру. Я думаю, что это шаг неслучайный. Он очень устал после
Фауста, картины вполне "демонической" во всех смыслах. Так что нужно еще живым выскочить из всего этого демонизма, который и внутри картины, и снаружи. Что будет дальше, не знаю.
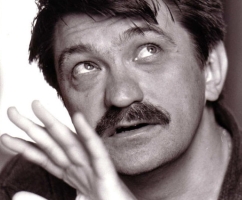 Иногда появляется ощущение, что вы и Сокуров, как художники, существуете в разных стихиях. Например, мы уже говорили о том, что в ваших сценариях достаточно сильное комическое начало. Сокурову же, кажется, это не очень близко.
Иногда появляется ощущение, что вы и Сокуров, как художники, существуете в разных стихиях. Например, мы уже говорили о том, что в ваших сценариях достаточно сильное комическое начало. Сокурову же, кажется, это не очень близко.
Не совсем так. Саша понимает юмор как одну из сторон души. Но дело в том, что в его режиссерском видении есть повышенное внимание к "внутреннему космосу", к пространству души человека – при том, что он редко работает с актерами-"звездами". Я же пишу, в основном, притчи. Стараюсь, во всяком случае. У меня фабула не говорит того, что говорит сюжет, если под сюжетом подразумевать смысл показанных событий. Я работаю со смыслами, Сокуров – с душой. От этого в ряде наших картин происходит борьба режиссера со сценарием. Это борьба почти полностью миновала
Молох. И еще, кажется,
Фауст воплощен близко к сценарию. Саша не любит всех этих моих "перетеканий", он любит равномерное камерное действие, эмоционально насыщенное и вместе с тем ровное. Не знаю, как сказать точнее.
И при всех этих глубинных расхождениях вы работаете вместе так много лет.
Да, расхождения были с самого первого дня. Почему это не помешало сотрудничеству, абсолютно непонятно. Причем мы же в разных городах живем, фактически в разных странах. Просто есть какие-то вещи, от нас не зависящие.
У ваших совместных картин всегда был очень высокий "входной порог" для зрителя. Было ли это неким сознательным и обдуманным желанием разговаривать именно и только со "своей" аудиторией?
Обдуманным – нет… Не знаю, хорошо это или плохо, но мы просто так сформировались… Например, в начале нынешнего года должен выйти мой новый роман. Ничего не стоило создать из него коммерческую вещь, но я сделал все возможное, чтобы "утопить" коммерческий потенциал фабулы, максимально затруднить прозу для восприятия. У нас, по-видимому, в крови есть какой-то фермент: если получается успешная зрительская картина, пользующаяся полной поддержкой критики, сразу появляется мысль – ты соврал, ты сделал что-то не то. Это, наверное, парадигма поколения. Мы формировались в период противостояния силе, а кино – это государственная и финансовая сила. Поэтому мы считали, что делаем вообще не кино, "не ваше" кино. Потом был кратковременный роман с государством в эпоху перестройки, которое будто бы внешне гуманизировалось – по крайней мере, стало давать нам работать. А сейчас, по-моему, наступает возвращение к той старой парадигме семидесятых годов. Круг замкнулся, и мы снова стали юными.
Как раз во время этого перестроечного "романа" был и прокатный успех – у Дней затмения Сокурова и у Господина оформителя Олега Тепцова. Причем последний вы делали, насколько я понимаю, как игру с жанровым кино.
Да, я был тогда озабочен сплавом жанра и арт-кино. Мне казалось, что этих двух чудовищ можно соединить друг с другом – и получатся картины, которые не будут отторгаться зрителем и будут одновременно нести нечто глубокое. Но, конечно, уже в девяностых годах эта иллюзия у меня полностью пропала. Не получается этого сплава на нашей почве. И не получается, как мне кажется, прежде всего из-за позиции продюсеров, не слишком образованных и очень "отформатированных". Если картина "неформатная", то мы это спихнем в арт-кино, то есть "богатое" государство профинансирует, а мы отхватим себе часть денег на поездку в Ниццу... На телевидение продадим – ну и отобьем. Так было с картиной
Чудо. Производитель вообще не вел рекламной кампании, потому что заранее продал фильм второму каналу и при подсчете выходил "в ноль". А больше ничего и не нужно. Фильм вышел в итоге только на четырнадцати копиях. И это еще много! Фильм
Полторы комнаты Андрея Хржановского вообще вышел на трех копиях.