Фильм пользовался успехом, в том числе у критиков, однако Фукасаку был обвинён консервативной прессой в вольном обращении с историческими фактами. Собственно, подобные упрёки в адрес
Бесславных ублюдков его ученика Тарантино были лишь тенью нападок на
Самураев сёгуна. Но Фукасаку с его отвращением к официальной истории был верен себе и хранил невозмутимость: "Откуда вы знаете, как всё было? Могло случиться и то, что показал я". Сразу вслед за
Самураями сёгуна в том же 1978 вышел ещё один исторический эпос Фукасаку,
Падение замка Ако (он же
Клинки возмездия). В основу легла знаменитая и не раз экранизировавшаяся история 47 ронинов, самураев, расправившихся с виновниками смерти своего хозяина и принявших смерть как наказание за совершённые убийства. У Фукасаку был план сделать фильм как можно жёстче и даже добавить мистики, но исполнитель главной роли, легендарный актёр самурайского кино
Кинносуке Накамура, был непреклонен в своих требованиях максимально приблизить новый фильм к традиционным киноверсиям истории. Намерения же режиссёра превратить 47 ронинов в "дикую банду с мечами" и террористов 18 века и вовсе вызвали бурное негодование звезды. Переговоры Фукасаку с Накамурой затянулись настолько, что наш герой успел за это время снять проходную фантастическую ленту
Послание из космоса. В конце концов, постановщик принял позицию Накамуры, и, хотя
Падение замка Ако получился вполне достойной работой, "настоящий Фукасаку" здесь заметен только в эпизодах. Прежде всего, в кульминационной схватке, которая похожа на резню якудза, а не на торжество справедливости и благородной мести. (В 1994 Фукасаку частично реализовал ту часть первоначального замысла, которая соединяла классические самурайский и мистический сюжеты. Фильм
История о 47 ронинах и призраке Йоцуя стал одним из наиболее визуально изощрённых у режиссёра).
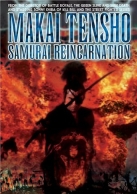
В 80-е да и 90-е дела в японском кино шли не столь блестяще, как в прежние годы. Конкуренцию с Голливудом сменило подражание блокбастерам. Мода на унылый артхаус некогда энергичное и динамичное японское кино тоже, увы, затронула. Поэтому в 80-е оригинальные и вызывающие фильмы появлялись в основном благодаря оригиналам из независимой "пинк-индустрии" (эротического кино), вроде Хисаясу Сато. Что до мэтров прошлого, то Теруо Ишии из кино 80-х вообще самоустранился, а радикалы Вакамацу и Фукасаку пополнили ряды общепризнанных мастеров, против которых ещё совсем недавно яростно бунтовали. Фукасаку выпускал не слишком вдохновенные коммерческие фильмы (
Вирус 1980 года,
Воскрешение самурая 1981 года,
Легенда о восьми самураях 1983 года) или получавшие одобрение критики добротные драмы (
Дом в огне 1986 года). Из картин 90-х я бы выделил
Предательство 1992 года. Да, поклонники классического Фукасаку и этот фильм недолюбливают, но мне он кажется пусть и не шедевром, но весьма достойной работой. Традиционный "фильм об ограблении" мэтр решает в манере "non-stop action" и радует былой агрессией, чёрным юмором и виртуозными перестрелками. "Предательство" явно создавалось как японский ответ гонконгским боевикам "героического кровопролития" ("heroic bloodshed"), и ответ удался на славу. Ветеран криминального кино продемонстрировал всем уверенное владение жанром и способность обойти любого из новомодных режиссёров в мастерстве постановки боевых сцен.
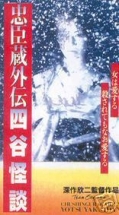
В центре сюжета
Предательства как раз противостояние опытного грабителя банков и амбициозного начинающего бандита. Симпатии Фукасаку очевидно на стороне ветерана, но и молодой противник героя показан не без уважения, так что многие критики увидели в такой позиции отражение отношений режиссера и молодых кинематографистов. По мере того, как со второй половины 90-х японское кино постепенно стало выбираться из кризиса, всё больше и больше режиссёров называли нашего героя своим вдохновителем. Фукасаку считал чрезмерное преклонение перед мастерами прошлого вредным для развития кино и не советовал слишком рьяно клясться в любви к пожилым мэтрам. Например, придя на встречу с молодыми кинематографистами и окинув застывшую в почтительном молчании аудиторию, Фукасаку мог объявить с ухмылкой: "А вот я в ваши годы мечтал убить Акиру Куросаву". С другой стороны, конечно же, ему было приятно такое внимание. Разные по уровню, но получавшие мировое признание в 90-е
Такеши Китано, Рокуро Мочизуки,
Киёси Куросава или
Такаши Миике (автор среди прочего очень слабого ремейка
Кладбища чести 2002 года) часто и охотно ссылались на Фукасаку, как на своего наставника.
Куросава не раз обращался к Киндзи-сану и за психологической поддержкой. Например, когда критики объявили его фильмы слишком жестокими и "разрушающими ценности японского общества", режиссёр поделился проблемами с Фукасаку. Тот презрительно хмыкнул: "Жалкие получаются ценности, если их можно разрушить одним фильмом". Фраза потом перешла в интервью Фукасаку, а Куросава до сих пор благодарен нашему герою за помощь.
В 1996 Фукасаку возглавил Гильдию Кинорежиссёров. Основными направлениями своей деятельности он определил помощь режиссёрам в сохранении за ними авторских прав (с конца 40-х годов они были их лишены) и пропаганду японского кино за рубежом. "Недостаточно показывать западному зрителю только
Одзу, Куросаву и
Мидзогути. Я хочу добиться широкого международного проката для работ моих коллег, которых совсем не знают в мире". Для Фукасаку это была очередная возможность разделаться с официозом в истории. На этот раз в истории кино. Благодаря деятельности режиссёра, мировой зритель получил возможность увидеть, что японский кинематограф развивался не столько при помощи четырёх-пяти фестивальных фаворитов, сколько оригиналов жанрового кино. Регулярно посещавший западные страны Фукасаку быстро покорил своим обаянием европейских и американских критиков и режиссёров, став другом и наставником и для них. Крис Дежарден, например, посвятил свою книгу о японском кино родителям, любимой женщине и Фукасаку.
Но общественная и пропагандистская деятельность не помешали постановщику продолжать снимать. В 2000 он взорвал настоящую кинобомбу, напомнив всем, что настоящего радикала успехом и призами не купишь. Это была
Королевская битва - картина, ставшая "самой обсуждаемой японской лентой со времён
Корриды любви (Марк Шиллинг).

Книга Кусюна Таками 1998 года уже успела наделать много шума. В ней шла речь о школьниках, которые по решению правительства должны истреблять друг друга в "королевской битве" и определять сильнейшего и достойнейшего таким жестоким образом. Экшн-антиутопия о суровом будущем Японии, которое похоже на её же имперское прошлое и современные тоталитарные режимы, шокировала консервативную публику и вызвала обвинения в чрезмерном насилии и едва ли не поощрении подростковой преступности. Фукасаку внёс в киноверсию некоторые изменения, но подрывной эффект от них только усилился. Соединение мрачного пророчества с антиавторитарным радикализмом и канонами боевика режиссёром исполнено безукоризненно.
Королевская битва может восприниматься как захватывающее зрелище, радовать любителей жанра великолепными схватками-перестрелками и напоминать, что молодые и красивые герои, которые убивают друг друга – это всегда здорово. С другой стороны, фильм стал для Фукасаку возможностью показать, как повели бы себя в знакомой ему по 1945 году ситуации "выживания любой ценой" пятнадцатилетние подростки не изнурённой войной страны, но развитой и технологически продвинутой Японии. При этом режиссёр умышленно уравнивает политиков, ввергших Японию во Вторую Мировую, с теми, кто создал систему, в которой живут герои
Королевской битвы.
Необходимость убивать, чтобы выжить и открыть в себе до того неведомые качества, обнаруживающиеся только в экстремальных ситуациях, – одна из важных тем фильма. "Я многое узнала", - говорит героиня в конце. "Есть вещи, о которых лучше не знать", - отвечают ей. Кто из собеседников прав, решать зрителю. Фукасаку избегает однозначных трактовок. Особенно это заметно, если вспомнить руководящего "королевской битвой" учителя. У Таками это психопатичный патриот, вызывающий лишь омерзение. У Фукасаку учитель обрёл облик
Такеши Китано и стал едва ли не самым интересным персонажем фильма. Конечно, он на стороне системы, но его действия в картине сродни тому, что делает
Королевской битвой режиссёр. "Они хотят одного и того же: встряхнуть учеников, зрителей, критиков, общество, самих себя. Встряхнуть и заставить выйти из ступора" (Мэйшес).
Фильм вышел в прокат под аккомпанемент обвинений в смаковании насилия. Политики тоже остались недовольны увиденным. И Фукасаку с готовностью ринулся в бой, раздавая интервью: "Мне важно, чтобы фильм увидели подростки. Так что, ребятки, плюйте на возрастные ограничения и идите в кино. Докажите, что вас не напугать запретами… Мой фильм – басня. Политики так дёргаются, потому что
Королевская битва показывает – они ни черта не делают. Зато пытаются контролировать искусство, прикрываясь громкими речами о защите детей от насилия… В общем и целом
Королевская битва - в своём роде моё приветствие современным подросткам. А уж что они увидят в этом приветствии – послание или предупреждение – их дело".
Вскоре дебаты вокруг фильма вышли и за пределы Японии. Фильм стал международным хитом и сделал очень многих западных зрителей новоявленными поклонниками японского кинематографа. Охотно признаюсь, что и я был в их числе.
Начало 21 века казалось идеальным для Фукасаку. По итогам многочисленных "миллениумных" списков его фильмы входили в число лучших японских лент.
Бои без чести и жалости и вовсе стали постоянными в десятках самых главных, самых значимых и самых оригинальных. Серия попадала даже в число основных культурных событий века, не только кинематографических. Шумный успех
Королевской битвы сделал Фукасаку самым популярным режиссёром Японии в мире. Во многом благодаря его влиянию очередное поколение кинематографистов всё увереннее выводило кино страны Восходящего Солнца на ведущие позиции. Режиссёры за пределами Японии тоже всё охотнее признавали влияние Фукасаку (хотя бы
Фридкин и
Тарантино). Всё замечательно?
Фукасаку мог производить впечатление при первой встрече, об этом уже говорилось. Но и эффектно обставить прощание великий режиссёр умел. И вот осенью 2002 года он созвал пресс-конференцию, где сообщил две важные новости. Во-первых, болезнь убьёт Фукасаку через несколько месяцев. Во-вторых, он начинает съёмки
Королевской битвы-2. Врачи предлагали режиссёру лечь в больницу и, может быть, продлить жизнь на год-полтора, но тот определённо помнил завет Фуллера: "Кино – это поле боя". На нём вечный боец Фукасаку и хотел встретить смерть. Конечно, стремительно покидавшие режиссёра силы не давали как следует руководить съёмками. Но он старался продолжать работу. А ухудшавшемуся зрению не позволил помешать закончить книгу сценариста
Кадзуо Касахары. Умерший в 2002 Касахара был соавтором режиссёра на ряде шедевров 70-х (в том числе на "Боях без чести и жалости"). Они часто ссорились, но снова продолжали сотрудничать. Дочитать книгу "сообщника" Касахары до своей смерти стало для Фукасаку делом принципа. С ней он справился, но на фильм его уже не хватило. Друзья не оставляли великого режиссёра, ещё один верный соратник,
Бунта Сугавара, бросил все дела, лишь бы быть рядом с умирающим Фукасаку-саном. Но болезнь оказалась неумолима. 12 января 2003 года Киндзи Фукасаку умер.
Королевскую битву-2 закончил сын режиссёра,
Кента Фукасаку. Фильм оказался катастрофически неудачным. Куда убедительнее почтил память любимого режиссёра Квентин Тарантино, посвятивший Фукасаку
Убить Билла. А сегодня уже совершенно очевидно, что гений и личность Киндзи-сана возвышаются над требованиями моды и конъюнктуры. Он стал редким примером бунтаря-победителя, который всегда будет вдохновлять новые поколения режиссёров. Художественные находки Фукасаку, сколько бы они ни цитировались, также никогда не утратят своей силы. И фильмы этого великого постановщика продолжат захватывать, тревожить, ошеломлять. Как говорил герой
Боёв без чести и жалости в незабываемом финале шедевра: "У меня ещё остались пули".