
Александр Шпагин
Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.
Читать далее
|
|
|
|
|
30 июля 2009
Ян Левченко
 30 июля выдающемуся режиссеру Питеру Богдановичу исполнилось семьдесят лет. Его имя называют в числе реформаторов Голливуда, заявивших о себе на рубеже 1960-х и 1970-х. Его одногодки – это Френсис Форд Коппола, Брайан де Пальма и Майкл Чимино, тогда как поколение простирается от старшего Артура Пенна до младшего Стивена Спилберга. Их вера в торжество автора над законами жанра и напряженной умственной работы над простой и ясной идеологией голливудской классики с годами не померкла, разве что чуть изменилась, поддавшись-таки диктату всесильного рынка. Но это если говорить о тех, кому "повезло" в традиционном американском смысле. Богданович – из другого теста, и баловнем судьбы его не назовешь. Его биография реализует приблизительно тот же ход, что определил экранную судьбу Орсона Уэллса и Джона Кассаветиса – актерство, худо-бедно окупающее режиссуру. Конечно, напрашиваются поправки: Богданович не столь неистов, скорее, по-интеллигентски сдержан, энциклопедически образован и способен это не демонстрировать при каждом удобном случае, как, например, Мартин Скорсезе. Нельзя не признать, что поздние работы Богдановича находятся в тени его громких заявлений первой половины 1970-х – Последнего киносеанса и Бумажной луны, но ведь это всего лишь успех у публики. А она, как известно, переменчива и непоследовательна. В эксклюзивном интервью "Синематеке" Питер Богданович выступил в проверенном жанре "о времени и о себе".
ПБ: …И почему же вы опаздываете со звонком?
ЯЛ: Ох, я прошу прощения. Действительно, слегка запоздал. Пробовал несколько раз и, наконец, дозвонился. Рад слышать Вас.
ПБ: ОК, я тоже. Спрашивайте.
ЯЛ: Вы – один из немногих американских режиссеров, начавших карьеру на французский манер. Я имею в виду, сначала была критика, потом практика.
ПБ: Это не совсем правда. Я начинал как актер, когда мне было 20 лет. Даже меньше, потому что я слегка приврал, когда устраивался на работу. Это было на телевидении. А потом я попал в Музей Современного Искусства в Нью-Йорке, где требовался молодой человек, чтобы вести киноклуб. В этом качестве у меня появилась какая-то репутация, я начал писать в "Эсквайр", а потом и мечтать о режиссуре. Правильно то, что "новая волна" послужила хорошим примером. Так вышло, что актерскому мастерству меня учила Стелла Адлер (активная пропагандистка системы Станиславского в США, наставница Марлона Брандо и Уоррена Битти – Я.Л.), потом я много почерпнул из "Кайе дю Синема", для чего научился читать по-французски. Но когда я переключился на режиссуру, я исходил как из писательского, так и актерского опыта. Чистая реализация теории, как, например, у Жана-Люка Годара, мне была неинтересна.
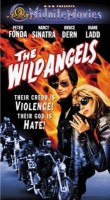 ЯЛ: Признаться, меня очень впечатляло то, что Вы начали работать в кино на европейский лад. Выходит, я ошибался. А не могли бы Вы рассказать о своем сотрудничестве с Роджером Корманом?
ПБ: О господи! Это же всем более или менее известно, да и новости не самые свежие! Я познакомился с Роджером на одном просмотре, мы рядом сидели. Он вспомнил какие-то мои работы в "Эсквайре". В том числе, я писал и о Диких ангелах (Wild Angels (1966) положили начало культу байкеров, радикально изменив трактовку этой субкультуры по сравнению с Дикарем Ласло Бенедека – Я. Л.). Вы видели эту картину?
ЯЛ: Она у нас не шла в официальном прокате, но знатоки с ней знакомы.
ПБ: Хорошо. Эта встреча произошла вскоре после моего отъезда в Калифорнию в 1968 году. Я написал тогда свой первый сценарий – он назывался Мишени. Это была история обезумевшего ветерана вьетнамской кампании, который на гражданке принялся палить во все стороны, предварительно расправившись со своей семьей. В параллель этому рассказу из реальной жизни я поставил историю престарелого актера фильмов ужасов, который видит, что новое время требует новых монстров. Этот ход получился импровизированно. Дело в том, что Борис Карлофф (великий англо-канадский актер жанрового кино, прославившийся в образе Франкенштейна – Я. Л.) был должен Роджеру два съемочных дня еще с тех пор, как в 1963 году снимался у него в экранизации Ворона и потом в Страхе. Потом кадры из этого фильма я вставил в Мишени: герой врывается с оружием в кинотеатр, где показывают этот фильм. Идет стрельба, на экране – Джек Николсон, все очень динамично. Так вот, Роджер как бы подарил мне эти два дня с Борисом, что удивительно. Глупо было упускать такой случай. Карлофф сыграл у меня этого самого актера по имени Байрон Орлок. Вы понимаете, к чему отсылает это имя?
ЯЛ: Кажется, Носферату?
ПБ: Да. Карлофф, конечно, не Макс Шрек, который играл вампира в немом кино, так ведь сразу в лоб все объяснять – это сами понимаете… Снимать пришлось быстро, бюджет был небольшой, все, как полагается. Потом мы еще некоторое время работали с Роджером…
ЯЛ: Не могли бы Вы рассказать о фильме Путешествие на планету доисторических женщин, за основу которого был взят советский фантастический фильм Планета бурь?
ПБ: Постойте, настоящее название русского фильма было Путешествие на Венеру (ПБ здесь все же ошибается – ЯЛ). Это было совершенно ужасное кино – затянутое, плохо и скучно снятое. Но в нем что-то было, какая-то потенциальная энергетика, что ли. Я ничего за основу не брал, это сделал до меня Кертис Херрингтон, который под началом Роджера Кормана в 1965 году смонтировал картину Путешествие на доисторческую планету. Но тогда эксперимент Роджера не слишком удался – в фильме оказался неважный звук, да и занимательности стоило добавить. Мы это и сделали – сцены с женщинами оказались там очень кстати. Фильм от этого только выиграл. Хотя я не могу сказать, что я сторонник такой практики – открыто переделывать чужие работы…
ЯЛ. Один из Ваших самых известных фильмов об американском кино называется Снято Джоном Фордом. Это целиком документальное кино или там присутствует и вымысел?
ПБ: Нет, это полностью документальный фильм безо всякой игры. Ну, разве что Орсон Уэллс там фигурирует в качестве повествователя, чего уже достаточно для подозрений. В данном случае они беспочвенны. Вы какую версию видели?
ЯЛ: (засуетившись): Я… Я… Где-то конца шестидесятых (Типичный случай так называемого вранья – ЯЛ).
ПБ: Понятно. Он вышел в начале семидесятых. Там нет никакого осознанного вымысла. Это просто рассказ о большом режиссере, художнике, чьи глаза и руки чувствовали свое время и отчасти его и создавали.
ЯЛ: Джон Форд – Ваш любимый режиссер, или у Вас были чисто исследовательские задачи?
ПБ: Я снимал картину для истории, как это обычно и делается. У Форда я учился делать кино. Так же, как, например, у Фрэнка Капры, которого я люблю больше. Но не я принимаю все решения относительно своей работы. Вы же понимаете. Моей первой работой был фильм о Говарде Хоуксе. Это тоже мастер, которого нельзя забывать, когда говоришь о великом американском кино. Что касается Форда, то это не только один из самых успешных, но и один из самых типичных, почти демонстративных американских режиссеров. Он воплотил Америку как идею и воспел ее, как поэт. Когда я делал о нем фильм, я всего лишь расширял свои представления о его роли в американской истории. При этом нельзя сказать, чтобы я остался доволен версией 1971 года. Тогда пришлось сокращать. Более приемлемого результата удалось добиться только в 2006 году, когда вышла версия, расширенная на 10 минут.
ЯЛ: Ваш Последний киносеанс открыл новую страницу в истории американского кино. В чем была изначальная идея фильма? Как он начинался?
ПБ: Я прочитал роман Ларри Мак-Мертри, и меня поразили эффектные диалоги, которые были готовы перенестись на экран. Между тем, сам я не вполне понимал, как надо снимать эту картину. Я принимал решения по ходу съемок. Разумеется, не собираясь с духом, чтобы сказать новое слово. Я исходил из максимальной реалистичности – все должно было быть ровно так, как это происходит в типичной провинции. Возникло своего рода шоковое напряжение между тем, как внешне безмятежно течет жизнь маленького городка, и теми страстями, которые бушуют в душах людей. Это напряжение отражалось и на стилистическом уровне: черно-белое изображение, стойкая ассоциация со старым кино с его целомудрием, и разработка запретных тем, еще и динамично смонтированная. Повторяю, что я ничего не искал специально, а старался сделать повествование настолько реалистичным, насколько это было возможно. В итоге получилась первая серьезная работа – ее дальнейшую помощь моей карьере я не могу переоценить.
ЯЛ. Последний киносеанс открыл миру Джеффа Бриджесса, это его первая роль. Он с самого начала обещал стать большим актером?
ПБ: Роль Джеффа в Киносеансе была не первой вообще, а первой, после которой его заметили. Без сомнения, Джефф – великий актер, очень пластичный, универсальный и вдумчивый. Работать с ним было легко. Он надолго задумывался, но всегда делал ровно то, что было нужно. Точность и осознанность реакции отличала его уже тогда. Иногда я был даже вынужден принять его поправки, хотя и был в глубине души уверен, что только я имею право на конечное мнение.
ЯЛ: Почему не имел успеха Техасвиль – продолжение Последнего киносеанса? Другое время – другая публика?
ПБ: Для начала я бы не сказал, что Последний киносеанс пользовался уж таким бешеным признанием, это кино для других надобностей. А Техасвиль, посудите сами, не обнаруживает никакого прогресса в жизни героев. Они не слишком успешные люди, у них много проблем, которые они предпочитают прятать и делать еще более болезненными для себя. Я снял честную картину, связанную с социальным фоном. Не могу сказать, что я был доволен условиями производства и дальнейшими контактами со студией. Сначала все шло своим чередом, но в 1989 году, президентом стал Джордж Буш-старший. Он меня очень не любил. Студия это знала и, конечно же, начала мешать моей работе. В итоге, когда фильм вышел в 1990 году, условия его восприятия были несколько другими.
2 страницы
1 2  
|
|
|
|