
Антон Сазонов
Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.
Читать далее
|
|
|
|
|
24 июля 2009
Ксения Косенкова
Требуемым фильмом "о современности" стали Печки-лавочки (1972). Шукшин хотел дать большой документальный фон – студия же навязала широкоэкранный формат, предполагающий задействование чрезвычайно громоздкой техники: это очень осложняло работу, потому что скрыться в толпе с такой техникой невозможно. Известно, что перед началом съемок Шукшин добился просмотра запрещенной новаторской Истории Аси Клячиной А.Кончаловского (1967) – его особенно поразила Любовь Соколова, которая играла "не хуже" непрофессиональных актеров. Именно этого эффекта добивался Шукшин. Массовые сцены в Москве и на юге снимали "живьем", проникая в толпу. В фильме участвовали, сами о том не догадываясь, маленькие дочери Шукшина; алтайских крестьян изображали, само собой, алтайские крестьяне, шукшинские земляки. Главную роль должен был опять сыграть Куравлев, но он отказался, и Шукшин – явно с пользой для фильма – взял роль на себя, впервые со времен дипломной работы объединив все свои профессиональные ипостаси.
В Печках-лавочках Шукшин развивал и усиливал до предела свои авторские мотивы. Это опять было путешествие – из алтайской деревни, через Москву, "к югу". Иван Расторгуев, колхозник, получивший путевку на курорт, воспринимал поездку как отчаянную перемену, подвиг, хождение по мукам: фильм опять начинается долгим гулянием – проводами будто на войну. Иван и его жена Нюра (Лидия Федосеева-Шукшина) любопытствуют перед путешествием, как дети, и как дети же робеют. Поездка, как всегда у Шукшина, распадается на четкие тематические главы – встречи с командировочным, с вором, с профессором, Москва, море, возвращение. Через них раскрывается Иван в своей сути: он одновременно робок и заносчив, хитер и простодушен, подозрителен и доверчив. Нрав его не ведает благостной середины. Он страшно уязвим – заранее знает, что может в любой момент получить ни за что, ни про что, и с ходу обращается к следователю "гражданин", будто уже подследственный. Его без конца учат, что "пора оставить эти деревенские замашки", и одергивают: "Не очень тут! Не на печке!". Прекраснодушное, умильное народничество профессора, впрочем, не лучше: для него Иван и Нюра – ходячие экспонаты. Будучи выставленным в Москве для обозрения как представитель "народа-языкотворца", Иван намеренно и зло играет в "посконного мужика".
В финале Расторгуев сидит на алтайской горе Пикет – которая, выгибаясь дугой, смотрится будто край земли – мрачно о чем-то думает и вдруг произносит "Все, ребята, конец". По воспоминаниям оператора А.Заболоцкого, смысл в эту неоднозначную фразу Шукшин вкладывал вполне крамольную – конец, мол, русскому крестьянину. Так или иначе, сохранение финала у начальников пришлось выбивать, в целом же фильм от цензоров пострадал очень сильно. Полностью вырезали, например, номера бездомного балалаечника-виртуоза Феди Телецкого, встреченного съемочной группой на Алтае. Шукшин был заворожен талантом самоучки, и хотел, чтобы тот открывал фильм. Остались же в итоге только мелодии, наигранные Телецким и обработанные композитором.
Печки-лавочки были на тот момент явно лучшим, что снял Шукшин, но плохо прошли в прокате. Возможно, не хватило для народной любви какого-то нужного сюжетно-мелодраматического элемента. Всё сошлось только в последнем фильме Шукшина – Калина красная (1973). Всё – это 62,5 млн. зрителей и лидерство в прокате, специальные дискуссии критиков, несколько призов – в том числе на МКФ в Берлине, и обретенный со временем статус одного из лучших отечественных фильмов всех времен.
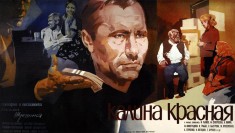 Калину… трактовали всячески – и, наверное, каждый раз правильно. Фильм многослоен и поддается разным интерпретациям: это и экзистенциальная драма – в этом случае особый смысл приобретает первоначальный замысел Шукшина – самоубийство Егора в финале (режиссер писал, что на такой финал ему не хватило смелости), и религиозная притча – тогда сюжет можно представить как борьбу бесов-уголовников за Егорову душу с ангелом-Любой, и т.д. Калину… трактовали всячески – и, наверное, каждый раз правильно. Фильм многослоен и поддается разным интерпретациям: это и экзистенциальная драма – в этом случае особый смысл приобретает первоначальный замысел Шукшина – самоубийство Егора в финале (режиссер писал, что на такой финал ему не хватило смелости), и религиозная притча – тогда сюжет можно представить как борьбу бесов-уголовников за Егорову душу с ангелом-Любой, и т.д.
Одно понятно: это самый пронзительный, выстраданный и авторский фильм Шукшина. Егор Прокудин по кличке "Горе", "ворюга несусветный", едущий к "заочнице" Любе Байкаловой, – это и сам Шукшин, и Стенька Разин – разбойник ("иногда я бываю фантастически богат, Люба") и идеалист ("я эти деньги вонючие… вполне презираю"), и воплощение вечных антиномий русской души, которая всегда "болит" и хочет праздника, воли и покоя одновременно.
У Егора совершенно особый язык: "Шаркнули по душе!", "Праздничек блыснул. Ну что ж, пойдем в ямку", "Могу заносить быкам хвосты, поскольку я кругом в замше", "Не могли бы мы здесь организовать небольшой забег в ширину, такой, знаете, бордельеро?", "Они у нас, собаки, спляшут – и не маленьких лебедей, нет. Железное болеро. Краковяк вприсядку!" и т.д. Это какое-то алхимическое сочетание слов – едкое и действующее даже помимо смысла, непонятно как, уже одним только ритмом.
Здесь злой юмор, что-нибудь вроде "Сделай тете ручкой" ("тетя" - это следователь прокуратуры) сочетается с невыносимой по накалу, снятой "на разрыв аорты", сценой встречи с матерью, которую должна была сыграть Вера Марецкая, а сыграла, нет, стала ею неграмотная крестьянка Офимья Быстрова. Герой здесь уже, конечно, выходит за рамки социальной принадлежности – не все ли равно, в конечном итоге, кто он – уголовник ли, крестьянин или интеллигент, это драма "общезначимой" неприкаянной, остервенелой души. "Чистых покойничков мы все жалеем и любим, вы полюбите живых и грязных", – писал когда-то Шукшин. И он первый, кто явственно любит и жалеет Егора.
Если еще Печки-лавочки были сделаны в какой-то общей режиссерской парадигме своего времени, возможно даже с небольшим отставанием от главных тенденций, то Калина красная, снятая всего год спустя, – результат поразительной авторской свободы, здесь Шукшин – уже сам себе парадигма, альфа и омега фильма. Он не боится гладить березы, рвать на себе рубаху и делать Любу абсолютным, воплощенным идеалом женственности – любые обвинения в пошлости, олеографичности, театральности, которые начали звучать сразу же, еще во время съемок, ему не страшны. И криминальные, и мелодраматические обертоны фильма только подчеркивают его авторскую силу. Ту же свободу обращения с жанрами и приметами "низовой" культуры мы видим в лучших фильмах Фассбиндера, Альмодовара, Каурисмяки. Резать фильм Шукшин не собирался, он был готов к тому, что его положат "на полку".
В кино 1970-х вообще была видна тенденция к отходу от групповых взглядов и возрастанию личностного режиссерского начала. Киновед Нея Зоркая выделяла "эмблему-триптих" советского кино 1970-х – Калина красная, Зеркало А.Тарковского, Жил певчий дрозд О.Иоселиани: "…это в сути своей произведения свободного, неангажированного кино, – писала Зоркая. – Их создатели духовно расстались с советской идеологической службой. Они творят по велению сердца, а не по социальному заказу, будь последний прогрессивен или оправдан. (…) Действуя в условиях государственного кинематографа, вынужденные проходить всеми коридорами его начальственных учреждений, авторы, по сути дела, уже иные".
Трагедия в том, что для Шукшина 1970-е оборвались, едва успев начаться. Время с тех пор многажды переломилось, многое стало воспринимать трудно. Но Шукшина – нужно.
3 страницы

 1 2 3 1 2 3
|
|
|
|