
Александр Шпагин
Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.
Читать далее
|
|
|
|
|
17 июля 2009
Иван Денисов
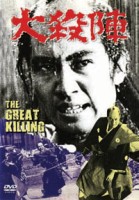 В 13 убийцах Кудо обозначает разрыв с консервативной традицией самурайского кино. Реализм, жестокость и достаточно циничные выводы (якобы благородные самураи оказываются лишь цепными псами своих хозяев, готовых пожертвовать любым количеством людей для своих целей) в них обозначены, но ещё не акцентированы. А вот во второй части так называемой "чёрно-белой революционной трилогии", Большая бойня (1964), бунтарский талант режиссера уже предстаёт не скованным никакими жанровыми условностями.
Завязка схожа с Убийцами, да и сценарист здесь всё тот же Икегами. На сей раз разношёрстная группа самураев собирается для расправы над высокопоставленным политиком, чтобы тем самым подорвать влияние видного придворного интригана. У убийц есть покровители-реофрматоры, сами они руководствуются высокими идеалами борьбы за справедливость, но по мере развития событий идеалы трещат по швам и рушатся, а финальная схватка из тщательно спланированной операции превращается в вынесенную в заглавие бойню. Здесь гибнут не только заговорщики и солдаты правительства, но и невинные люди, случайно попавшие в эпицентр резни. Самим же заговорщикам, несмотря на все жертвы, даже не удаётся исполнить задуманное, так как все они погибают в масштабной битве. И только циничный одиночка (Микидзиро Хира), лишённый иллюзий и идеалов, может найти возможность расправиться с зарвавшимися политиками. И не потому, что он борется во имя каких-то идей, а потому что следует личным понятиям о чести и не может позволить жестоким властям оставаться безнаказанными.
Темп Бойни ощутимо ускорился по сравнению с Убийцами, настроение стало более мрачным, а постановка батальных эпизодов была выведена Кудо на запредельный уровень. Кульминационную сцену большой бойни он снимал ручной камерой, что создало уникальный эффект присутствия (невероятное ощущение "документального самурайского фильма", усиленное фонограммой действительно документальной записи разгона студенческой демонстрации). Хаос, кровь и непрерывное движение – грубый и реалистичный, но одновременно захватывающий экшн. Во многом Кудо здесь предвосхищает находки своего друга Фукасаку (который довёл до совершенства использование ручной камеры в батальных сценах своих криминальных лент) и великого американца Пекинпа. Финальные битвы Большой бойни и Дикой банды - безусловные образцы сцен действия в своих жанрах, да и в мировом кино вообще.
Великие умы думают одинаково, и в подходах к кино Кудо и Пекинпа вообще можно найти много общего. Вот цитата из Пекинпа времён Соломенных псов: "Насилие начинается с какой-то причины, с принципов, за которые стоит драться. Но в основе всего – наша примитивная жажда крови. Поэтому в разгар битвы причины и принципы забываются. Люди сражаются во имя самого сражения". А вот Кудо рассказывает о Большой бойне: "Основа событий не меняется. Есть некая система, есть её идеолог, последователи. Но потом любое движение обречено на крушение по разным причинам. И дальше – только кровавый хаос". И неудивительно, что при просмотре лучших батальных сцен этих мастеров мы испытываем удивительное сочетание радостного возбуждения с неприятием происходящего, и готовы по много раз упиваться и ужасаться режиссёрскими шедеврами Кудо и Пекинпа. Сметающая огнём мексиканскую армию дикая банда и крушащие всё на своём пути самураи Большой бойни - зеркало, в котором зрители видят свое отношение к насилию на экране.
Рефлексия над идеологией и прямая отсылка к студенческим волнениям 60-х в этом фильме не случайны. Критик Тадао Сато отмечал важность Большой бойни для понимания общественно-политической жизни Японии той поры, а сам Кудо охотно признавал созвучие своего фильма реалиям японской жизни. К тому же он считал, что форма самурайского фильма гораздо более удобная для анализа всех протестных движений. Сам поучаствовавший в подобной активности Кудо симпатизировал бунтарям, но и особых иллюзий по поводу агрессивного идеализма не питал. Поэтому его взгляд на вооружённую борьбу весьма пессимистичен. Результат всегда один – по словам режиссёра, "когда бунтари, люди со всеми слабостями и внутренними конфликтами сталкиваются с аппаратом подавления, то получается лишь полная анархия". Трезвый взгляд режиссёра оказался и пророческим. В середине 60-х японское общество ещё романтизировало левых радикалов и ожидало от них каких-то действий по изменению мира. Но ближе е концу десятилетия активисты и радикалы увлеклись сведением личных счётов и чисткой своих рядов от "ревизионистов". Вчерашние революционеры расправлялись друг с другом, демонстрируя жестокость, которой позавидовали бы якудза, а понятие "идеологические войны" приобрело более чем зловещее звучание. Мечта о единении во имя революции обрушилась и похоронила под собой многих, наивно поверивших в неё. Уцелевшие либо понуро вернулись в объятия истеблишмента, либо стали обычной уголовщиной, как в Японии, так и за её пределами. Какие-то инфантильные левые интеллектуалы продолжали петь левым радикалам дифирамбы, радуясь, например, тому, что японские бандиты помогают палестинским террористам убивать мирных людей, но здравомыслящая публика всё же разочаровалась в левых движениях той поры. А ведь Кудо вынес точный диагноз ситуации и сделал точный прогноз ещё в 1964 году. И если бы адвокаты "новых левых" больше внимания уделяли жанровым шедеврам, а не претенциозным левацким поделкам a la Годар, то, может быть, человеческих жертв было бы поменьше.
После Большой бойни третья часть вольной трилогии, 11 самураев (1967), кажется едва ли не развлекательной. Динамичное действие, быстрый монтаж, множество схваток. Это парафраз знаменитой истории о 47 ронинах рассказывает о самураях-мстителях, которые должны расправиться с уверенным в своей безнаказанности придворным. Негодяй с лёгкостью готов уничтожить бедного фермера, помешавшего его охоте, и незначительного феодала, осмелившегося выступить против такого произвола. Серия неудачных нападений приводит к очередной умопомрачительной битве. Кудо снова демонстрирует свой выдающийся талант в постановке боёв, так как схватка двадцатиминутной продолжительности ни в чём не повторяет находки 13 убийц и Большой бойни, но содержит все отличительные черты почерка режиссёра в соединении реализма и зрелищности. Свои любимые темы Кудо вплёл в повествование и здесь - 11 самураев является не только эффектным самурайским боевиком, но ещё и рассуждением об ответственности власти за свои действия и гимном в честь циничных одиночек. Отличный актёр Ко Нишимура блистателен в роли ронина, который примыкает к отряду мстителей не из-за высоких абстракций, а из-за желания быть в вечной оппозиции к властям (в этом снова можно увидеть любопытную отсылку к американскому и европейскому кино – вестернам о разочарованных циниках, примкнувших к мексиканским революционерам именно из-за желания постоянно быть против существующих порядков). И именно он остаётся в живых после кульминационной бойни, чтобы уйти в туманный рассвет и обозначить переход к циничным и прекрасным 70-м.
Правда, в циничные и прекрасные 70-е Кудо от самурайского жанра отдалился. Его роль в реформировании "дзидай гэки" и так нельзя переоценить. Последним значительным самурайским фильмом режиссёра стал Форт смерти (1969) , второй из короткой, но интересной серии Охотник за головами с популярным Томисабуро Вакаямой. Кудо превратил свой фильм в эффектную и остроумную вариацию на темы спагетти-вестернов с очень точными цитатами из "долларовой трилогии" Леоне. Конечно, глубины чёрно-белой трилогии здесь, наверное, не стоит искать, но высокий уровень режиссуры и мастерство в батальных сценах, как всегда, сомнению не подлежат.
"Тоэй" всё активнее смещала акценты на "якудза эйга", предпочитая отдавать самурайские ленты мастерам с "Тохо" или "Дайэй". К концу 60-х и Кудо занялся работой над популярным жанром. Нельзя сказать, что он добился здесь успеха, равного тому, что выпал на долю его самурайских лент, но достаточное количество достойных фильмов он поставил. К популярным "нинкйо", прославлявшим кодекс чести якудза, у Кудо душа совсем не лежала. Он хорошо помнил тех якудза, что крутились около первых красавиц "Тоэй" в начале его карьеры и терроризировали молодых конкуренток своих любовниц-актрис. Угрозы порезать лицо или как-нибудь ещё изувечить начинающую старлетку были в порядке вещей (что хуже – часто они воплощались в жизнь), поэтому такое поведение никак не стыковалось с образом благородных якудза-джентльменов из "нинкйо". Кудо говорил: "Все эти "нинкйо" меня никогда не привлекали… гораздо важнее было найти реалистический подход к теме". На дилогии 1967-68 годов История преступного мира Японии Кудо работал с настоящим якудза (и тоже потомком самураев, кстати) Нобору Андо. То есть тогда Андо уже ушёл из преступного мира в мир кино и стал популярным актёром, но образ "человека со шрамом" (шрам был получен им от врагов-якудза) оставался при нём на протяжении всей кинокарьеры. Андо был не прочь себя в кино идеализировать, но режиссёру знания экс-якудза были важнее для придания историям максимального реализма. "Мне важно показать, как складываются банды, как гангстеры объединяются для войн, как такая жизнь влияет на их существование…все они лишены простых отношений, любви. А это приводит к отвратительным поступкам и жестоким действиям". Особенно успешной стала первая часть дилогии, "Кровная вражда". На фоне криминального сюжета Кудо рассказал историю о неожиданной дружбе пожилого полицейского (Дзюндзабуро Бэн) и начинающего якудза (Андо), которая из-за преступной карьеры героя Андо постепенно перерастает во взаимную ненависть. Фильм таким образом остаётся отличной гангстерской историей и в то же время размышлением о человеческих отношениях.
Проповедовавшийся Кудо реализм позволяет назвать его первые опыты в "якудза эйга" провозвестниками "дзицуроку", то есть максимально приближенных к документальному повествованию гангстерских лент. Но произвести революцию в этом жанре и сделать "дзицуроку" самым ярким явлением криминального кино Японии, сметя все каноны "нинкйо" суждено было не ему, а его старому другу Киндзи Фукасаку. Если в 60-е Кудо определенно превосходил своего знакомца по популярности и новациям, то в 70-е Фукасаку стал безусловным режиссёром №1 Японии. Соревноваться с ним в "якудза эйга" было просто невозможно. Да Кудо и сам это понимал. В 1974 он попробовал себя в более развлекательном подходе к "якудза эйга", сняв седьмую часть известной серии Братство гадюки, 30 приговоров (1974). Серию делали добротные профессионалы вроде Садао Накадзимы, и главным было дать возможность дуэту замечательных актёров Бунта Сугавара – Тамио Кавадзи показать свои комедийные способности, а к финалу переключиться на эффектное действие, чтобы пара героев могла разделаться со всеми злодеями. По определению Криса Дежардена, у Кудо получилось "безукоризненное соединения комедии и боевика, мой любимый фильм серии". Режиссёр называл 30 приговоров "возможностью передохнуть и сделать более лёгкий фильм…обычно я предпочитаю более серьёзные и драматические проекты". Но и этот комедийный боевик Кудо украсил своим стилем и не только в традиционно виртуозных боевых сценах. Заняв в одной из ролей актрису Мичи Азума, Кудо показал, как её героиня превращается из уличной оторвы в прелестную девушку, и привнёс в сюжет драматизм и неожиданную грусть в части, когда красавица погибает, отправив Сугавару и Кавадзи на тропу мести. А эпизод с убитой героиней, лежащей в наполненном цветами гробу, числится среди самых поэтических в жанровом кино.
|
|
|