
Александр Шпагин
Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.
Читать далее
|
|
|
|
|
31 января 2009
Ян Левченко
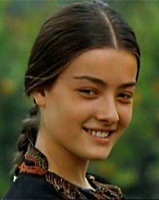 Естественно, эта духовная эскапада встречает непонимание и гнев. "Алуда! С дедовских времен десницы рубим мы кистинам!" - хором звучит рефрен односельчан. Молодой воин должен покинуть село и скитаться вместе со всей семьей по суровым горам. Человечность проигрывает неравный бой с Законом. "Увы, хевсуры, плох закон! – Алуда возражает своим соплеменникам с точки зрения, которую сам Абуладзе, несомненно, считает не просто христианской, но общечеловеческой.
Абуладзе приготовляет этому сюжету новеллу-двойника (вместе они создают структурное обрамление фильма). Кистин Джохола убивает на охоте тура и встречает заблудившегося хевсура Звиадаури, которому предстоит коротать ночь в горах. Джохола приглашает его на ночлег. Односельчане узнают в госте кровника и, попирая законы гостеприимства, врываются в дом Джохолы и чинят расправу над неверным. Вновь Законы, когда-то произвольные, а ныне безусловные, оказываются сильнее и абстрактного гуманизма, и конкретного здравого смысла.
Основной повествовательный стержень Мольбы – фигура Поэта, также имеющего своего зеркального двойника по имени Мацыл. Это естественный – во всяком случае, для автора фильма – антипод "сверх-я", носителя духовных ценностей. Поэт неизменно занимает гуманистическую позицию, демон, конечно, цинично-прагматическую. Между ними пребывает образ Прекрасной Девы, вызывающей у Поэта вдохновения, а у Мацыла, разумеется, похоти. Начиная с этого нарочито схематичного треугольника и заканчивая мелкими деталями эпизодов, Мольба графически реализует идею противопоставления добра и зла. Черно-белое изображение позволяет режиссеру принимать предельно выразительные решения, где закадровый текст носит исключительно служебную роль.
Поразительны визуальные приемы этой картины. Отрубленные кисти кистинов (нечаянное созвучие) усеивают слоистый склон у подножия хевсурской крепости. На ритуале заклания барашку отрезают голову, кропят кровью жертвенный камень, после чего окровавленной рукой крестят объектив камеры. Изгнанное из села семейство Алуды бредет по белой равнине в сторону далеких гор и растворяется в мертвенной белизне.
Вереница кистинов, везущих на казнь пойманного хевсура – черные точки на белой стреле снежной тропы в обрамлении черных гор. После казни – в контржурном освещении - мы видим залитую солнцем виселицу, к которой прислонена лестница – не в небо ли? Наконец, в "городских" эпизодах фильма, посвященных странствиям Поэта, есть сцена траурной процессии на похоронах знатного человека, облеченного властью, где черный цвет идущих фигур дан в негативе. Это буквально обращает привычный бликовый рисунок, переворачивает свет и тень и обрастает мощным символизмом. Следующей картиной, которую Абуладзе уже определенно называл второй частью трилогии, стал фильм Древо желания. Это история, опять-таки кровной вражды, накануне революции выродившейся в местечковую свару, которая, впрочем, может зайти слишком далеко. В этом фильме, решенном, по контрасту с Мольбой, в орнаментальном ключе и потому напоминающем яркий и цепкий калейдоскоп, рассказывается история "незаконной" любви небогатого юноши Гейди и девушки Мариты, насильно выданной замуж. Старейшины села осуждают их чувства, отдают их на ритуальное поругание, в результате чего оба погибают, как бы возвышая обыденность до легенды. Неслучайно действие фильма происходит уже в XX веке, когда даже грузинская деревня поддается буржуазным веяниям. Законы предков вспоминаются, только когда это выгодно. В данном случае они – на стороне фарисеев и богачей. Это главный морально-критический вывод фильма.
В Древе желания, по наблюдению литературоведа и писателя Валентина Огнева, Абуладзе пишет цветом, точно так же как в Мольбе – черно-белой графикой. "Цвет может звучать, как труба, и быть неслышным. <…> В Древе желания Т. Абуладзе есть оба примера. Яркий, насыщенный, локальный – в начале фильма: белый конь, умирающий на ярком лугу. И пленение Мариты, когда фонограмма "забирает" у палитры все краски: черная грязь, серое небо, темные фигуры мучителей и чавканье многочисленных ног, собачий лай, лязганье железной двери…" Действительно, цвет играет в Древе желания ту же роль, что и, например, в Цвете граната Параджанова и даже третьей серии Ивана Грозного Эйзенштейна, передавая мельчайшие оттенки настроения, заставляя зрителя улавливать те или иные перемены, которые сулит героям изменчивая судьба.
|
|
|