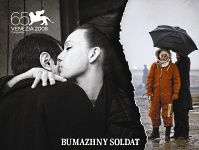
В Венеции прошла премьера Бумажного солдата Алексея Германа младшего. На итальянском фестивале младшего Германа любят - здесь побывали все три полнометражных фильма режиссера. Последний поезд дебютировал в Венеции, Гарпастум участвовал в конкурсной программе, а Бумажный солдат - единственный восточноевропейский фильм из всего основного конкурса Мостры-2008. Мало того, в свете последних событий в Грузии у последней картины Германа появился новый, весьма любопытный для западных журналистов политический аспект - главная мужская роль в фильме принадлежит грузину Мерабу Нинидзе.
Фильм, который делит свое название с песней Булата Окуджавы, реконструирует ощущения советской интеллигенции конца 60-х годов. Формальным поводом для погружения в конец хрущевской "оттепели" послужила история любви (скорее, даже нелюбви) на фоне продолжительного этапа подготовки к запуску в космос первого человека. Голос за кадром, работая хронометром фильма, монотонно отсчитывает шесть недель 1968 года.
Это уже третий фильм Алексея Германа-младшего, воссоздающий прошлое нашей страны. При этом последняя картина подобралась к настоящему ближе всех - дебют был посвящен Великой Отечественной, Гарпастум - началу Первой Мировой. К последнему фильму в команде Германа произошли некоторые серьезные изменения: в частности, оператор двух первых фильмов, Константин Лукичев, был заменен сразу на двух: над изображением Бумажного солдат работали Алишер Хамиходжаев (Все умрут, а я останусь), который по слухам в ходе съемок был уволен, и Максим Дроздов. Кроме того, Герман вступил в производственный союз с новым для себя продюсером, Артемом Васильевым (режиссер сказал, что сотрудничеством остался очень доволен).
Предыдущие картины младшего Германа имели общую характерную черту - очень красивая картинка, сопровождающая несколько "расфокусированный" сценарий, сделанный с очевидной оглядкой на работы отца. И все, кто видел эти фильмы, резюмировали впечатления приблизительно одинаково: "Да, снято красиво, но к чему бы это?". Сейчас, после Бумажного солдата, становится очевидно, что не оператор определял приверженность к рафинированному изображению - оно на месте, и с успехом обеспечивает холодную, отчужденную атмосферу фильма. И, несмотря на то, что операторов над фильмом работало двое (один в Казахстане, другой в Москве), стилистических разрывов не видно. Да, снято красиво: некоторые сцены, действие которых происходит где-то возле строящегося Байконура - просто выдающиеся. Но вопрос, следующий за констатацией факта хорошей работы операторов, декораторов, осветителей и прочих работников "сцены", всё тот же. И это вопрос к голове всего предприятия, режиссеру Алексею Герману-младшему: "К чему бы это всё?"
Сам Герман на пресс-конференции с напускной тоской в глазах рассказывал, что это фильм о русской интеллигенции, точнее, любом поколении русской интеллигенции. Ибо она во все времена у нас одна была: томится, заламывает руки и вопрошает "Что делать?" и "Как быть?" А еще он говорил, что снимал фильм о своих знакомых, которых поместил в интересующее его время, потому что хотел рассказать об ощущениях поколения своих родителей, но через призму той интеллигенции, что окружает лично его. И ведь, знаете, даже жалко человека становится.
Главный герой, молодой (чуть за тридцать) доктор Даниил Покровский, грузин, сын замученного сталинским режимом знаменитого отца-хирурга, присматривает за группой потенциальных первых космонавтов. Доктор умён, но предпочел бы быть гениальным (рефлексии изрядно способствуют постоянные напоминания об отце), не любит в этой жизни ничего, кроме глупых (и обидных для друзей) розыгрышей и Родины. Женщин он тоже не любит - ни московскую жену Нину, ни казахскую юродивую Веру. Зато они его, разумеется, обожают. До такой степени, что в конце останутся вдвоем. Основная популяция фильма - доктор П. и его женщины, их друзья, а также лётчики-весельчаки, претендующие на важное место в истории, но по понятным причинам опасающиеся смерти в случае, если что-то пойдёт не так. А в процессе подготовки что-то постоянно идёт не так, вплоть до гибели одного из кандидатов на космическую Одиссею.
Лётчики - пожалуй, лучшее, что есть в фильме. Есть и "Юра", образ которого вполне соответствует советской иконографической традиции. Но присутствуют здесь и две основные морально-интеллектуальные проблемы, которые сценарий безуспешно пытается отразить. Первая проблема - это способность (и необходимость) любить Родину, когда она в текущем состоянии не вызывает большого восторга. Вторая - вечное сомнение мыслящих людей в адекватности приложения собственных способностей. За первую отвечает, как ни странно, Герман-старший, ибо именно с ним консультировался сын, когда писал сценарий. И это довольно странно, потому что, судя по картине, 68-й был невероятно гнетущим годом для советской интеллигенции. Правда, Герман-младший на той же пресс-конференции рассказывал, что отец, занятый завершением фильма История арканарской резни, не отвечал на телефонные звонки, когда сын в нем так нуждался. Он также признался, что бесконечные сомнения и внутреннее одиночество доктора – это его собственные, глубоко личные переживания. Бог с ним, история местами позволяет интерпретировать себя довольно вольно, особенно, когда речь идёт не о фактологии, а о том, чтобы передать ощущение эпохи. Но за тоску по самореализации, которую на экране визуализируют доктор и его на редкость картинные приятели, отвечает лично Герман-сын.
К актерам фильма никаких претензий нет и, пожалуй, не могло быть. Кастинг выполнен очень придирчиво и с неимоверно широким географическим охватом. Главные роли играют профессионалы европейского уровня: Мераб Нинидзе и Чулпан Хаматова. Нинидзе, который начал карьеру с Мольбы Тенгиза Абуладзе, а сейчас живёт в Австрии и снимается в видных европейских проектах (например, у Роланда Сусо Рихтера и Каролины Линк), убедительно изображает сомневающегося, испуганного и одинокого человека. Хаматова, снимающаяся у Германа второй раз подряд, на экране вполне естественна и органична. Но при этом страдания и метания героев остаются на экране, эти универсализированные интеллигентские переживания не находят никакого отклика в душе.
А виной всему два обстоятельства. Во-первых, в моем окружении немало интеллигенции и, что интересно, до сих пор ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-то из них так страдал от неуверенности в России и себе самом, чтобы хвататься руками за голову и грохаться оземь. И смотреть на это даже не смешно. А во-вторых, спустя какое-то время после начала фильма, осознаешь то, что вне Венецианского фестиваля могло оказаться незамеченным: в углу каждого кадра будто бы висит едва заметный водяной знак - "сделано на экспорт". Экспортное в фильме всё: упоминаемые фамилии русских, мысли героев, их отношение к Сталину, Советскому Союзу, прошлому и будущему. Ни одной фразы, которая останется непонятной иностранцу - всё чисто. И такой подход даёт именно те результаты, на которые был рассчитан - итальянцам явно понравилось.
Помнится, в одном из интервью Алексей Юрьевич Герман сказал, что не смотрел фильмов своего сына. И не собирается. Умный он всё-таки человек.
