

Антон Сазонов
Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.
Читать далее
|
|
|
Алексей Коленский
Внутренняя империя Евгения Марголита
17 июня 2009, 19-31
Евгений Марголит
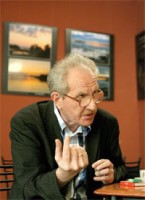 Алексей Коленский: Уважаемый Евгений Яковлевич! В рамках 31 Московского Международного Кинофестиваля состоится подготовленная вами серия показов Социалистический Авангардизм. Часть II. Но прежде, чем мы поговорим о фильмах этой программы, хотелось бы вернуться к нашей предыдущей беседе (Беседы с Евгением Марголитом: Великий Русский Немой). Тогда мы остановились на сравнении творческого наследия патриархов советского авангарда, Эйзенштейна и Протазанова… Есть ли хотя бы одна точка пересечения их киновселенных? Можем ли мы назвать Сергея Михайловича гением модернизма? И как мы опишем вклад Якова Александровича?
Евгений Марголит: Видите ли, у современника наших героев Велимира Хлебникова где-то встречается деление всех по принципу "изобретатели" и "приобретатели". Не помню, к кому оно относится: к творцам ли, или ко всему человечеству, но если речь идёт о художниках, то это два равноправных типа. Если "изобретатели" создают новый язык, то "приобретатели" находят те предметы и отношения, которые этот язык обозначает. Эйзенштейн, конечно же, классический "изобретатель", а Протазанов – гениальный "приобретатель". Его способность насыщать кем-то открытый приём смыслом, причём именно требуемым смыслом, совершенно уникальна. Скажем, Бауэр открывает киногеничность анфилад как средство построения глубинной мизансцены. Но философских глубин это его фильмам не прибавляет, правда? А Протазанов на этих анфиладах строит проход Германна по дому графини в Пиковой даме, да ещё используя движущуюся камеру с точки зрения персонажа. Или вот: ранний звук, хрестоматийная Заявка Эйзенштейна-Пудовкина-Александрова. Синхронность-асинхронность, звукозрительный контрапункт, главное, чтоб звук и изображение не совпадали, а то театр получится... Пудовкин придумывает сцену: герои прощаются на вокзале- лицо женщины-звук уходящего поезда-поезд стоит на месте. Это значит, что она боится расставания. И из-за этого весь сыр-бор. А Протазанов озвучивает свой немой фильм Праздник св. Йоргена: отец-настоятель за кадром рассказывает умилительную историю, а в кадре изображение демонстрирует, как всё было на самом деле с точностью до наоборот. Вот вам идеальный и гениальный в своей элементарности пример классического звукозрительного контрапункта.
Читать далее

|
|