
Антон Сазонов
Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.
Читать далее
|
|
|
|
|
17 июня 2009
Алексей Коленский
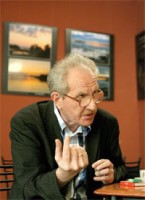 Алексей Коленский: Уважаемый Евгений Яковлевич! В рамках 31 Московского Международного Кинофестиваля состоится подготовленная вами серия показов Социалистический Авангардизм. Часть II. Но прежде, чем мы поговорим о фильмах этой программы, хотелось бы вернуться к нашей предыдущей беседе (Беседы с Евгением Марголитом: Великий Русский Немой). Тогда мы остановились на сравнении творческого наследия патриархов советского авангарда, Эйзенштейна и Протазанова… Есть ли хотя бы одна точка пересечения их киновселенных? Можем ли мы назвать Сергея Михайловича гением модернизма? И как мы опишем вклад Якова Александровича?
Евгений Марголит: Видите ли, у современника наших героев Велимира Хлебникова где-то встречается деление всех по принципу "изобретатели" и "приобретатели". Не помню, к кому оно относится: к творцам ли, или ко всему человечеству, но если речь идёт о художниках, то это два равноправных типа. Если "изобретатели" создают новый язык, то "приобретатели" находят те предметы и отношения, которые этот язык обозначает. Эйзенштейн, конечно же, классический "изобретатель", а Протазанов – гениальный "приобретатель". Его способность насыщать кем-то открытый приём смыслом, причём именно требуемым смыслом, совершенно уникальна. Скажем, Бауэр открывает киногеничность анфилад как средство построения глубинной мизансцены. Но философских глубин это его фильмам не прибавляет, правда? А Протазанов на этих анфиладах строит проход Германна по дому графини в Пиковой даме, да ещё используя движущуюся камеру с точки зрения персонажа. Или вот: ранний звук, хрестоматийная Заявка Эйзенштейна-Пудовкина-Александрова. Синхронность-асинхронность, звукозрительный контрапункт, главное, чтоб звук и изображение не совпадали, а то театр получится... Пудовкин придумывает сцену: герои прощаются на вокзале- лицо женщины-звук уходящего поезда-поезд стоит на месте. Это значит, что она боится расставания. И из-за этого весь сыр-бор. А Протазанов озвучивает свой немой фильм Праздник св. Йоргена: отец-настоятель за кадром рассказывает умилительную историю, а в кадре изображение демонстрирует, как всё было на самом деле с точностью до наоборот. Вот вам идеальный и гениальный в своей элементарности пример классического звукозрительного контрапункта.
АК: Позволительно ли нам отнести Эйзенштейна к "плохишам", которые вечно тащат в дом то, что взрослые обзывают "гадостью", а Протазанова представить пай-мальчиком, прилежно коллекционирующим занятные артефакты с целью их усовершенствования?
ЕМ: Не без того, достаточно вспомнить пристрастие Эйзенштейна к метафорам, скажем так, "съедобного-несъедобного" характера, их физиологизм. Но я бы уточнил: Эйзенштейн приносит то, что никто никогда не пробовал, а сам как будто подмигивает: а попробуйте-ка вы! Он вводит в поле искусства предметы, ранее лежавшие за его пределами, прежде всего – ужасное и безобразное. Но после мирово, после гражданской войны ужасное и безобразное входит в быт – от убийства до людоедстаа - и ему было важно вернуть аудиторию к ощущению ужаса от происходящего как гуманистической норме. Потому – смерть детей, потому – свежевание быка как только что умерщвлённой плоти, превращение живого и трогательного человеческого лица в кровавую маску с вытекающим глазом... А Протазанову достаточно сочетания слов "женщина" и "снайпер" в Сорок первом как противоестественного, и развернуть всё действие на пространстве не песчаном (всё-таки динамичном и эстетически привлекательном), но – каменистом. И готов образ войны как торжества смерти!
АК: Тогда, с вашего позволения, закрутим гайки нашей "диалектики": Эйзенштейн - художник-охотник, Протазанов – художник-собиратель. Так нам удобнее будет вернуться к ней позже.
ЕМ: Да, как настоящий охотник, Эйзенштейн свою аудиторию создает, покупает ее напором и трофеями. Напротив, для Протазанова аудитория – феномен сродни Прекрасной Даме, Он не просто за ней влюбленно ухаживает, деликатно потакая ее воображению – он её чувствует и ПРЕДчувствует. И, кстати, поколение сверстников Протазанова очень лихо работавшее в советском кино в начале 20-х, к концу 20-х практически сходит со сцены, потому что уходит их аудитория, но Протазанов сохраняет популярность и легкость. Он с его феноменальным чутьём аудитории меняется вместе с нею – и это главное условия для него остаться самим собой. Отсюда, именно отсюда зрительский успех большинства его фильмов.
АК: Вот и ваша программа Социалистического авангарда имела успех на прошлом московском фестивале…
ЕМ: Хотел бы я знать, у кого…
АК: У любителей и знатоков кино, я встречал там много других интересных людей - киноманов, филологов, девушек, иностранных славистов (возможно, будущих шпионов)…
ЕМ: Ну да, "...в городе С. говорили, что если б не девушки и молодые евреи, библиотеку пришлось бы закрыть". Чехов.
АК: Подарила ли Вам лично прошлогодняя программа ощущение состоявшегося праздника?
ЕМ: Да, это ощущение посетило нас, когда мы ее сформировали, отобрав всё то, что не вмещается в рамки расхожих представлений о нашем кино. Название ретроспективы, конечно же, несколько "стёбное", как нынче выражаются. Существовали же понятия "социалистический реализм" и даже, кажется, "социалистический романтизм", а в перестройку горячие головы и про "социалистический сюрреализм" стали поговаривать – так почему ж не быть невинному "социалистическому авангардизму"? А на самом деле мы решили показать то, что не совпадает с нашими представлениями о кино того времени, и у нас получилось два блока картин: рубежа 20-30-х и 60—70-х. Именно на переломе этих лет на наших экранах возникал образ утопии, попытки художественного осмысления образа грядущего - авторские провИдения прогресса, дающего возможность индивидуального творческого существования творца в радикально меняющемся мире. Лишь позже, в 70-х (но не в 40-х – по вполне понятным причинам) появлялась тема ухода в себя, индивидуального сбережения себя для мучительно-неведомой мечты, чуждой наличной системе… Что до этого года, то, признаюсь, в основе программы этого сезона стоят картины, физически не вместившиеся в рамки прошлой ретроспективы. А вот когда её сформировали, в ней опять-таки обнаружился свой внутренний сюжет, о котором чуть ниже. И главное: мы поняли, что и на следующий год, и на последующие материала хватает с лихвой. Открытий, особенно в ранний период, было сделано и в самом деле больше, чем мы можем сейчас осознать. Ну вот например: раннее звуковое кино как таковое не могло не быть экспериментальным. Или ты нашел новую выразительность, или выпал из профессии!
АК: Кстати, список подобных "стихийных бедствий" можно продолжить. Широкий экран, техниколор и многие другие непростые вызовы – вся история кино состоит из страниц переворачиваемых новациями, о которых сегодня предпочитают просто не вспоминать – потому, что за последние 25 лет экспериментов, переворачивающих массовое представление о границах визуального, мы как раз не найдем!
ЕМ: Не найдем, нет. Готовя программу для второй ретроспективы, я пришел к выводу, что лучшим определением сюжета для нее будет: авангард между новаторством и архаикой. Ну вот, скажем, Григорий Козинцев в годы войны в своих новеллах для Боевых киносборников возвращается к условности агиттеатра начала 20-х, на которой построены их первые фэксовские короткометражки. Это для 40-х столь необычно, что фильмы Юный Фриц и Однажды ночью (не путать с одноимённой военной картиной Барнета!) не разрешили к выпуску на экран. Это как – новаторство или архаика? Или вот: в конце 50-х годов в нашем кино произошёл краткий, но бурный всплеск интереса к экспрессивности монтажного кадра 20-х годов (причём, вне монтажных стыков). Такие картины тоже включены в нашу ретроспективу. Очень странный эффект! Вот шпионский триллер 10 шагов к востоку (1960) снятый на Туркменфильме. Авторов настолько увлекла выразительность ракурсов сама по себе, что они абсолютно забывают про детективный сюжет… Я сейчас не буду раскрывать секрет, скажу лишь, что увидев эти 10 шагов, Ромм зовет оператора фильма – лебютанта Германа Лаврова - снимать 9 дней одного года! Еще один фильм, близкий к этой эстетике – Юность наших отцов (1958) - дипломная работа Михаила Калика и Бориса Рыцарева, экранизация фадеевского "Разгрома". Фильм сочли столь мрачным и пессимистичным, что даже переименовали, решив, что картина недостойна носить название классического произведения соцреализма. Там есть прямые отсылки к эстетике немого кино. Например, попытка двойной экспозицией передать пулемётную скороговорку. Но есть и вещи совершенно иного рода, нарпример, сцена боя, когда Морозка спасает Мечика, снята предельно отстранённо – и этой отстранённостью напомнила мне фильмы Янчо, те же Звёзды и солдаты, которые принадлежат следующей эпохе.
АК: Аутентичное раскрытие образа военно-полевого ада – того самого, который обрел эпические черты и лирическое наполнение в "Красном и белом" Янчо? Магнетические рапиды?
ЕМ: И не только там! Картина, наиболее полно раскрывающая нашу концепцию "между архаикой и авангардом" - Дорогой ценой Марка Донского (1957). Картина совершенно парадоксальной судьбы, она почти не шла у нас в прокате, была моментально продана зарубеж и свела с ума Европу. В частности, военнообязанный критик Трюффо отправился в увольнительную под предлогом зубной боли и лишился здорового зуба – специально, чтобs посмотреть… Дорогой ценой, да! Правда, во Франции она шла под названием Плачущая лошадь.
АК: Не станем раскрывать сюжет, вы уже сильно заинтриговали зрителей…
 ЕМ: Да, это такое очень необычное и – вместе – очень украинское кино в лучшем – операторском – смысле слова. Скажу еще, что Тени забытых предков (и не только они) состоят в прямом родстве не с Довженко, а именно с картиной Донского. Когда фильм ставился на Киевской киностудии, ученики Игоря Савченко – Алов, Наумов, Параджанов и примкнувший к ним Чухрай – были там, Донской их опекал, и картина делалась буквально на их глазах. Уверен: без Дорогой ценой украинская школа поэтического кино вообще бы не состоялась. Так же, как эта картина невообразима без опыта украинской визуальной традиции - не режиссерской, а именно операторско-художнической. В нашем случае эта судьбоносная работа выпала ранее работавшему с Иваном Кавалеридзе оператору Николаю Топчему - ученику Алексея Калюжного, отца-основателя фантастической украинской операторской школы. ЕМ: Да, это такое очень необычное и – вместе – очень украинское кино в лучшем – операторском – смысле слова. Скажу еще, что Тени забытых предков (и не только они) состоят в прямом родстве не с Довженко, а именно с картиной Донского. Когда фильм ставился на Киевской киностудии, ученики Игоря Савченко – Алов, Наумов, Параджанов и примкнувший к ним Чухрай – были там, Донской их опекал, и картина делалась буквально на их глазах. Уверен: без Дорогой ценой украинская школа поэтического кино вообще бы не состоялась. Так же, как эта картина невообразима без опыта украинской визуальной традиции - не режиссерской, а именно операторско-художнической. В нашем случае эта судьбоносная работа выпала ранее работавшему с Иваном Кавалеридзе оператору Николаю Топчему - ученику Алексея Калюжного, отца-основателя фантастической украинской операторской школы.
АК: Назовем эту школу барочной?
ЕМ: Именно барочной! Живым доказательством тому станет еще одна картина ретроспективы – Хлеб (1930), режиссер Николай Шпиковский, оператор Алексей Панкратьев. Режиссёр сатирически-гротескового Шкурника тут очень уверенно упражняется в стилистике Довженко (вообще-то ему совсем не близкой), что само по себе уже интересно. Но вот кадры там по композиции напоминают решения, потрясшие в Каменном кресте Леонида Осыки, хотя Валерий Квас Хлеб видеть не мог. Просто пространство культуры было едино.
АК: А что происходит при встрече архаики и авангарда, можем ли мы это как-то обозначить?
ЕМ: Это блестяще сформулировал мой коллега, заведующий сектором российского кино ВНИИКа Николай Изволов: всякий технический прием в кино проходит за свою жизнь несколько стадий. Кстати, чаще всего он возникает из-за технической неполадки… Потом осознается, наполняется смыслом, затем становится нормой, далее - штампом…
И в этом качестве отвергается, забывается, покуда в новом контексте не возникает вновь как новаторский приём. И входит в обиход, и опять устаревает, и т.д, и т.п. По кругу.
АК: И обрастает мертвым грузом накрепко срифмованных с ним сюжетов? Да ведь именно так, в результате случайности и был изобретен кинематограф – во сне Луи Люмьер (к слову, страдавший чудовищными приступами бессонницы) увидел щелкающую машинку, заключенную в проекционный аппарат – таким образом, отсчет эпохи начался с мгновенной, незаметной глазу, остановки воображаемого движения…
ЕМ: Да! Цикличность сбоев, заложенных в принцип функционирования кинопроекции, сказывается и на жизненных циклах искусства. Ведь недаром смерть вечно рифмуют с забвением, а память – с воскрешением. То, что как будто вечно считали штампом, где-то "отлеживается", что б быть открытым заново! Например, самая захватывающая сцена в Летят журавли – предсмертные видения героя Баталова – двойная экспозиция, открытая еще в 10-е годы и забытая к 30-м - работает совершенно безупречно. То же происходит с рапидом, чрезвычайно популярным уже в первой половине 30-х – сцена стрижки Путевки в жизнь, бусы, рассыпающиеся у Барнета в У самого синего моря, молодежь на "гигантских шагах" в Гармонии Савченко… В 1965 его уже никто не помнит, и рапид становится родовым признаком нового авангарда, с максимальным драматическим эффектом используется в Солярисе Тарковского и у Параджанова в Тенях!
АК: А какова судьба украинской операторской школы?
ЕМ: Она "умерла" в 90-м году, последняя выдающаяся картина – Фучжоу Михаила Ильенко, Богдан Вержбицкий ее снимал, на нем все закончилось, все разъехались и стали снимать другое кино, некоторые умерли.
АК: Впечатляет количество дебютных картин в прошлогодней и нынешней программах…
ЕМ: Такое было время – конец 20-х – дебютная страда и первая половина 60-х. Любопытный феномен – те, что начинают формально раньше, часто с трудом находят себя… Например, Параджанов, который до Тени забытых предков снимал вполне беспомощное, безликое репертуарное кино.
2 страницы
1 2  
|
|
|
|