

Александр Шпагин
Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.
Читать далее
|
|
|
Виктор Матизен
Кинотавр, день пятый
12 июня 2009, 11-01
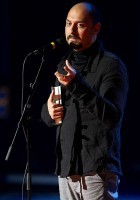 То, что лучше раз увидеть, чем десять раз услышать, подтвердилось в очередной раз. Попросив у продюсера Сабины Еремеевой диск альманаха Короткое замыкание (под обещание не вывешивать его на youtube), премьера которого состоялась на пропущенном мною открытии фестиваля, я убедился, что его авторы не просто владеет языком кино, но и знают, что на нем сказать. Другое дело, что прочесть настоящий визуальный язык и, тем более, перевести его в вербальный бывает не легче, чем совершить обратную операцию - экранизировать роман. Взять, к примеру, новеллу Кирилла Серебренникова Креветка про парня в розовом панцире, который работает зазывалой в рыбном ресторане. Не было бы панциря – не было бы кино, потому что цвет, форма и пластика определяют звучание и смысл картины в гораздо большей степени, чем сюжет и содержание. Чтобы адекватно пересказать Креветку, нужно написать нечто вроде Человека-ящика Кобо Абэ. То же и Срочный ремонт Петра Буслова про живущего в подвале глухого парня-сапожника, который видит перед собой только обувь, а за окном – только ноги. Фильм – как фокус иллюзиониста: только что был собой и вдруг оказываешься в шкуре героя, будь то упомянутый сапожник или слабоумный кореец из новеллы Германа-сына Ким, которого ломают в дурке: привет Полету над гнездом кукушки. Но главный фокус Кима даже не в этой позиционной метаморфозе, а в метаморфозе времени, когда понимаешь, что действие картины занимает не день, а год, за который и произошла перемена. И если говорить про общий смысл Короткого замыкания, который позиционирован как сборник рассказов о любви, то его предназначение - генерировать любовь к персонажам в тех, кто сидит в зале, перемещая последних в телесные оболочки первых.
Читать далее

|
|