
Антон Сазонов
Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.
Читать далее
|
|
|
|
|
23 марта 2010
Владислав Шувалов
2. Сэнсэй экранизации
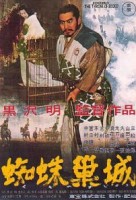 Подход Куросавы к экранизации классики вызывал восторг у самых неприступных современников. Товстоногов называл Трон в крови лучшей шекспировской экранизацией всех времен и народов. В основе театра Куросавы лежал принцип гармоничного сосуществования отдельных сознаний и мироощущений. Для большинства его произведений ( Семь самураев Трон в крови, Красная борода, Кагемуся, Ран) характерно полифоническое звучание, в котором чуткое ухо расслышит множество голосов. Иной раз Куросаву упрекали за авторитарность подхода к зрителю, которому навязывался гуманистический пафос, однако к своим героям режиссер всегда был в высшей степени либерален. В этом смысле параллель Куросавы с Достоевским не кажется праздной. Персонажи, созданные классиком русской литературы, тоже отличались правом личного высказывания и выступали не чужим рупором, но субъектом собственного голоса.
Куросава не гнался за правдоподобием отдельных деталей – он был нацелен на создание диалектически стройного ряда событий, судеб, мотивов. Следует подчеркнуть, что секрет его адаптивного метода проистекал из самой природы кино, ведь реальность в мире кинематографа преломляется неоднократно. Сначала автор производит "кадрирование действительности", затем она получает дополнительное преломление на экране кинотеатра в виде фильма, обладающего собственным монтажным решением и композиционным ритмом. Наконец, реальность фильма открывается зрителю в соответствии с перцептивными возможностями самого зрителя. Суть "экранизационного метода Куросавы" зижделась на созерцании как форме познания мира. Событие первоисточника, прошедшее через систему чувственно-интуитивного восприятия Куросавы-читателя, превращалось у Куросавы-режиссера в событие качественно иного порядка. Разбирая механизм этой системы, надо понимать, что ее хозяин - японец, воспитанный в духе традиций, бунтарь, по молодости увлекавшийся левыми идеями, знаток национального театра, истовый книгочей, ценитель новаций в области кино, проводник итальянского неореализма, американского вестерна и русской критической школы. Произведение, вызвавшее эмоциональный отклик, осмысляется автором на уровне интуиции и посредством личного жизненного опыта. Так, в шекспировский "Макбет" приходят маски из театра Но и балетная поступь японского танца, изобразительная энергетика кайдана и ритуальная жертвенность, присущая самурайской традиции. Иллюзия обращения к древним японским сказаниям приводит к рождению "новой реальности", удаленной от предметного мира английской знати, но истинно шекспировской по духу, размаху и широте формы, глубине познания человеческой природы.
 Новаторство Куросавы заключалось не только в переосмыслении классического сюжета, но и в модернизации образного инструментария японского искусства. Прежде, согласно традиции сценического представления, аутентичный персонаж должен был нести на лице неподвижную маску, отрабатывать ритуальные па и шлифовать чистоту движений. Герои Куросавы, напротив, суетливы и подвижны. Так, психофизика персонажей Мифунэ усложнена бестиальными штрихами ( Расёмон), элементами комикования ( Семь самураев), нотами видимого переживания ( Безродный пес, Рай и ад). Мимика часто искажала гармонию лица, но одновременно выражала его красоту. Печать порыва, угроза страсти, гримаса ужаса придавали дополнительную витальность образам, которые к тому же были свободны в движениях, раскованы в чувствах, подвластны сантиментам.
Единство кинематографического пространства было обусловлено яркой игрой актеров как живых, так и … "неживых". Образная сторона фильмов Куросавы необыкновенно сильна прочувствованной "игрой" природной стихии. Изнуряющая жара в Бездомном псе не щадила ни преступников, ни жертв, ни блюстителей порядка. Проливной ливень в Расёмоне благоволил загадочному рассказу о мерном течении жизни и непостоянстве истины (кстати, образ воды, стекающей стеной с карнизов полуразрушенного храма, оказал воздействие на молодого Тарковского, который впоследствии с успехом развил "эстетику дождя" в своих фильмах). Будто заимствованная у северного соседа снежная буря в Идиоте символизировала мертвенный холод отношений в окружении Камэды-Мышкина. Безжалостный суховей Телохранителя олицетворял одиночное противостояние героя и враждующих банд; подобно ветру Ёдзимбо перемещался из одного вражеского стана в другой. Обволакивающий ирреальный туман Трона в крови служил метафорой блужданий героя на границе света и тьмы. 3. Путь гуманиста с непреклонностью самурая
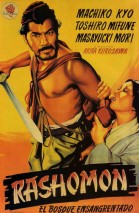 Фильмы Куросавы легко поддаются анализу – достаточно определить стилевую формулу (дзидайгэки, полицейский детектив, японская вариация нуара) и раскрыть сюжет, как становится понятным общий контур фильма. От тлена времени ленты Куросавы спасают их художественная многозначность и обилие межкультурных связей. Можно вспомнить, что в глазах местных националистов Куросава воплощал черты западного мира. Ему вменяли в вину космополитизм и подозревали в продажности. Так же в свое время относились и к Тарковскому, пренебрежительно отзываясь о гении русского кино как об экспортере национальных мифов. Недоброжелатели завидовали плодотворным контактам Куросавы, его успешной интеграции во внешнее культурное пространство, умению уловить вненациональные запросы публики. За акцентированной игрой Мифунэ скрывалась органика чаплиновского сентиментализма, а за полифонией режиссуры – сила гриффитовской монументальности. Говоря в терминах постструктурализма, Куросава был озабочен поисками "другого", поэтому на родине он слыл чужаком, тогда как для всего мира служил символом всего японского.
"Нити Куросавы" пронизывают мировой кинематограф. Семь самураев и Телохранитель вдохновили многих и многих авторов брутального кино, в числе которых были Серджо Леоне и Сэм Пекинпа. Ясной композицией и прозрачной многофигурностью фильмов Куросавы восхищался Роберт Олтман. Сюжеты японца обладали универсальной основой, легко приживавшейся на удаленных географических и жанровых территориях. Телохранитель дал жизнь артефакту в жанре "спагетти-вестерн" ( За пригоршню долларов, 1964). Семь самураев переехали на дикие земли фронтира ( Великолепная семерка, 1960). А Трое негодяев в скрытой крепости и вовсе улетели на звездолете в бездны "далекой-далекой галактики" ( Звездные войны, 1977).
Куросава ввел в обиход прием "кинематографического обмана", получивший название "эффект Расёмона", когда восприятие предыдущего эпизода фильма кардинально меняется под воздействием событий следующего эпизода. Переворот в причинно-следственных мотивах сбивал публику с толку; казалось, сам киноэкран "водил за нос" зрителя. Этот феномен впоследствии обнаружится во многих работах – от буквального римейка Ярость (1964, реж. Мартин Ритт) до триллеров Обычные подозреваемые (1995, реж. Брайан Сингер), Мужество в бою (1996, реж. Эдвард Звик), Там, где скрывается правда (2005, реж. Атом Эгоян). След Расёмона можно даже углядеть в перипетиях повествовательной структуры Криминального чтива, последнего киношедевра ХХ века.
Величие кинематографа Куросавы не ограничивается изобразительным арсеналом (революционным использованием телеобъектива и ставкой на длиннофокусную съемку, совмещением приемов немого кино и модных элементов, расширением монтажных и звуковых возможностей). Визуальное мастерство и широкомасштабность дарования необходимы для идентификации автора-классика-новатора, но недостаточны для признания подлинного величия. Истинных гениев отличает последняя, решающая надстройка – гуманистическая направленность произведения, ясно считываемая зрителями всех возрастов. В одной из глав своей книги "Кино Японии" историк Тадао Сато исчерпывающе раскрыл этот дар японского режиссера – умение держать фильм в плоскости человеческого измерения. Глава называлась символически точно - "Смысл жизни в фильмах Акиры Куросавы".
 "Самурайство" явилось формой творческого самосохранения мастера. Однако протагонист фильмов Куросавы жертвует своим существованием не ради устаревших декларативных норм – он отказывается от эгоизма во имя сохранения верности высшим идеалам. С другой стороны, даже если герой фильма Куросавы олицетворяет негативный образ, по ходу действия этот персонаж обязательно предаст самого себя, тем самым убеждая публику в порочности выбранного пути и верифицируя следование нравственному вектору. Нет смысла тратить время, средства, внутренние усилия и труд сотен людей для демонстрации мелкой души. Герой интересен Куросаве в момент достижения человеком жизненного максимума. При этом автор не идеализирует реальность и часто помещает персонажей в самые невыносимые условия ( Жить, Семь самураев, На дне, Красная борода, Додэскаден, Дерсу Узала). Нарисованные художником картины голода, лишений, болезней, мучительного одиночества не направлены на ожесточение зрителя, а, напротив, нацелены на поддержание коммуникации с ним. Витальный отпечаток проступает сквозь тяжелый материал, снижая горечь от осознания несправедливого устройства мира и безрадостного конца пути. Куросава провозглашает значимость человеческого поступка, возвышающего над бренностью всего сущего. Кажется, его фильмы таят в себе секрет поворота бытийной стихии вспять – от смерти к жизни.
2 страницы

 1 2 1 2
|
|
|
|