
Александр Шпагин
Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.
Читать далее
|
|
|
|
|
12 марта 2009
Томас Эльзессер Перевод: Ксения Тимофеева
Когда публика отучилась хватать изображение
Из этих рассуждений можно вывести примечательный парадокс: развитие кино не ограничивается тем фактом, что "картинки научились двигаться" (как часто полагают); перед нами стоит более принципиальный вопрос – каким образом зрители разучились хватать картинки, почему эта привычка была буквально искоренена, не в последнюю очередь путем высмеивания в фильмах про дядю Джоша?
Как описать исторический ход этого процесса и его условия? Последнюю четверть века раннее кино пользуется наибольшей популярностью среди историков кинематографа. Ни в коей мере не желая необоснованно упрощать эту сложную и противоречивую область исследования, все же отметим некоторые константы, позволяющие лучше понять и проследить границы между ранним – или "примитивным" - периодом кинематографа и "классическими фильмами", снятыми после 1917/1919 года. Прежде всего, наверное, следует отметить, что раннее кино по своей форме "театрально", "жестикуляционно-сценично", перформативно – в отличие от классического кино, которое можно охарактеризовать как "нарративное", транспарентно-иллюзионистское, соответствующее постулатам аристотелевской поэтики в построении действия и разработке образов. Поэтому историки кино применительно к ранним фильмам говорят о "показывании" (showing), а применительно к классическому кино – о "рассказывании" (telling). Ноэль Берч называл это "презентирующим" и "репрезентирующим" модусом , но в науке утвердилась терминология Тома Ганнинга, который различает "кино аттракционов" и "кино нарративной интеграции":
Эти понятия [кино аттракционов/кино нарративной интеграции – Т.Э.] являют собой попытку преодолеть два более ранних подхода, при помощи которых до сих пор стремились понять историю развития киноформ до появления полнометражного игрового кино. Первый (и на сегодняшний день наиболее дискредитированный) подход заключается в допущении линейного прогрессивного развития, которое, в значительной мере благодаря эвристическим открытиям и изобретениям отдельных гениев, привело от примитивных форм кинотворчества к более позднему нарративному стилю. Второй подход (чуть более элегантный, но, на мой взгляд, все же ошибочный) рассматривал эти трансформации как отход от театральных форм и переход к кинематографической работе с сюжетным материалом.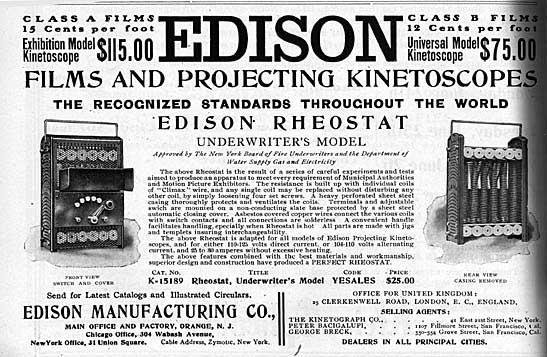
Итак, кино по своей сути связано с двумя противоположенными друг другу пространствами: пространством изображения и проекции (screen space) и зрительским пространством (auditorium space). Если в театре зрительный зал с точки зрения архитектоники и физического присутствия образует некое единство со сценой, отделяемой от зрителя при помощи сценических средств (занавеса, рампы, суфлерской будки, оркестровой ямы и так далее), то в кинотеатре оба пространства четко разделены – и именно благодаря этому тесно взаимосвязаны, так как имеет место тенденция объединять их в голове или теле зрителя с помощью иллюзий или других форм раздражения чувств, управления восприятием или когнитивной манипуляции. Применительно к сегодняшнему кино здесь следует вспомнить прежде всего не о расширении поля зрения, а о том, как изменилось ощущение пространства с появлением долби-стерео и многоканальных саундтреков: возникает иллюзия нахождения "внутри картинки", иллюзия окруженности изображением.
И хотя с этой точки зрения раннее кино вряд ли предвосхитило подобные зрительские привычки, тем не менее в практике демонстрации фильмов в первые десятилетия кинематографа уже угадываются истоки рассуждений Кракауэра и Беньямина о "культе рассеянности". Наверное, не будет преувеличением сказать, что прежде чем кино смогло отучить зрителя от стремления потрогать изображение, оно должно было научить почтенную публику спокойно сидеть на своих местах и сосредоточенно смотреть на экран. Первые кинобудки в торговых рядах совмещали функции кинотеатра и рюмочной или пивной; часто там вообще не было зрительных рядов, а были столы и стулья, так что привычная для нас организация зрительских мест в кино обусловлена не подражанием театру со стороны его сомнительного родственника, а скорее своеобразной регламентацией публики, которой четко разделенные ряды в зале навязывали определенный порядок. Существует очень показательный в этом отношении документ относительно кино как полиморфного места развлечения. Это опубликованный в 1907 году Отчет комиссии по "живым фотографиям", созданной по поручению Общества друзей отечественного образования и воспитания города Гамбурга. В своем стремлении убедить общественность во вредности кино для молодежи комиссия составила очень подробный и наглядный отчет о конкретной ситуации. Например, зрители в кинотеатрах курили, пили пиво, читали бульварную литературу и поедали сладости:
Совсем недавно я стал свидетелем того, как 6 учеников старших классов были вышвырнуты из театра живых фотографий официантом, поскольку мешали своими выходками представлению. [Вызывает озабоченность] продажа сладостей, а также курение среди юношей и чтение цветных бульварных изданий во время перерывов.
Очевидно, фильмам приходилось бороться за внимание публики. При этом уже вовсю действовали правила маркетинга и hard sell.
Вскоре комната наполняется дымом, становится душно. У официантов полно работы или же они назойливо предлагают свои услуги посетителям. Взрослые позволяют пришедшим с ними детям отхлебнуть из своих стаканов раз-другой, но дети обычно предпочитают бросать выклянченную мелочь в автоматы. Однажды я пришел около половины одиннадцати и сел рядом с двумя юношами: они курили, и перед ними стоял бокал пива. Они уже знали почти все картины и хотели посмотреть те, что вышли недавно. Оба работали разносчиками и пришли около десяти после последней ходки.
Разумеется, бельмом на глазу реформаторов кино были и непотребства, творимые под покровом темноты (а иногда и без него):
Неприятно видеть, как некоторые ученики старших классов используют театр живых фотографий. Я неоднократно заставал там молодых господ, которые уединялись со своими возлюбленными из высших кругов в дальнем углу зала, где беседовали с ними особенно оживленно и вдали от чужих глаз [по крайней мере, они так полагали – Т.Э.]. Раньше парочки были вынуждены бродить по улицам, например, по Эймсбюттелевскому шоссе. Ученицы народных школ среди них встречались редко, так как в их кругах считается неприличным прогуливаться по улицам с "ухаживателями".
В рамках такого подхода историю кино действительно можно было бы написать в жанре этнографического исследования гендерной социализации. Ведь о первых кинотеатрах уже есть упоминания в истории чикагских скотобоен, поскольку именно там впервые были применены кондиционеры, которые довольно скоро стали использоваться в крупных кинотеатрах в больших городах, и в холодные зимы кино часто было самым дешевым способом обогрева.
Наверное, самым ярким признаком раннего кино была музыка или звук, шумовые эффекты и комментарии. Это тоже был полный парадоксов исторический процесс. Долгое время исследователи были уверены, что раннее кино было немым. Позже выяснилось, что почти везде – и причем уже с момента первого появления движущихся картинок – процесс восприятия кино сопровождался также музыкой, часто разговорным комментарием и сложными шумовыми эффектами. В последние годы пересмотру подверглось и это представление: по всей видимости, "немые фильмы" все же были, но они тонули в бесконечном потоке мешающих или просто неподходящих к изображению звуков. Согласно докладу все той же гамбургской комиссии, в зале царила вавилонская какофония шумов, музыки и слов, что дало повод для резкой критики: "Необходимо указать также на громкую музыку, обычно исполняемую оркестрионами". Или еще: "Залы, за исключением Сан-Паули, плохо проветриваются (…), воздух прокуренный. Сопровождающая показ музыка механическая, оглушительно громкая и не соответствующая характеру представления. Только в театре фортепьянная музыка гармонирует с изображением".
Но даже присутствие пианиста не гарантировало подходящей музыки, свидетельством чему могут служить напечатанные Риком Альтманом сатирические рисунки из американского специализированного журнала "Moving Picture World" за январь 1911 года. При этом следует отметить, что сами карикатуры нарисованы в "демонстрационном" жанре раннего кино!
|
|
|