
Александр Шпагин
Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.
Читать далее
|
|
|
|
|
12 марта 2009
Томас Эльзессер Перевод: Ксения Тимофеева
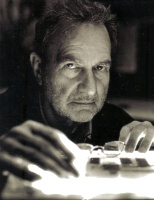 От коллективной публики к индивидуальному зрителю
Один из отцов-основателей Нового немецкого кино Эдгар Райтц в 1990-е годы частенько рассуждал о будущем кинематографа. На вопрос о том, нужны ли нам вообще кинотеатры, если "фильмы можно с тем же успехом демонстрировать в театре, церкви или гостиной", он отвечал:
[Если] проецировать фильм можно [будет] в любом направлении, то публика тоже станет более мобильной. В таком случае расположение зрителей, по-прежнему сидящих, как в театре, перед сценой с занавесом, будет уже пережитком старых времен. Разумеется, поначалу эта огромная свобода делает нас беспомощными, потому что для такого кино будущего пока не придумано никаких помещений. На заре кинематографа в зале поднимался занавес, и взгляд через экран устремлялся до самого Голливуда или, по крайней мере, до столицы империи. Сегодня тот факт, что изображения могут настичь нас в любой момент и с любой стороны, уже не кажется нам сенсацией. (…) Экраны для параллельного, синхронного кино давно существуют: на ярмарках и других массовых мероприятиях, в гостиничных холлах, на вокзалах и аэропортах. Везде движутся изображения. Но какая это была бы сенсация, если бы вдруг на всех экранах стали показывать одну и ту же историю!
Райтц упоминает раннее кино, по его мнению, безвозвратно ушедшее в прошлое. Это дает нам повод поразмышлять на тему истории кино, обращая внимание на те аспекты, в свете которых и будущее кинематографа может выглядеть по-другому. Как это часто бывает с прогнозами относительно средств массовой коммуникации, предсказания Райтца основываются главным образом на изменениях в области техники, таких как оцифровывание изображений или распространение Интернета. Они в некотором роде подтверждают идею о том, что мы переживаем трансформацию публичного пространства, в котором кинотеатру отводится особая, хотя и весьма двойственная роль традиционного "места переживания".Если говорить о современных тенденциях совсем просто, то речь здесь идет о невероятно возросшем интересе зрителей к кинопремьерам, с тех пор как на международном кинорынке снова господствует Голливуд с его блокбастерами или "Event-Movies": именно они вернули популярность искусству кино в целом, прежде всего у молодого поколения. Это возрождение обычно относят на счет новых технологий, в частности, фильмов со спецэффектами вроде Парка юрского периода, Дня Независимости или Титаника, которым удалось перелить совершенно новые ощущения аудиовизуального аппарата в форму продукта, легко узнаваемого массовым зрителем. Говоря об этом, мы в то же время затрагиваем изменения, нередко вызывающие негативную оценку: это, во-первых, возрастающая шумиха вокруг коммерческого использования кино в универмагах и магазинах игрушек (Скрытая угроза или Гарри Поттер), превращение в рыночный товар произведений литературы (книги Джейн Остин, Генри Джеймса или Виктора Гюго с кадрами из фильмов или фотографиями кинозвезд на суперобложке) и исторических сюжетов. Так, письма выживших в катастрофе "Титаника" были проданы на аукционе в Англии по беспрецедентно высоким ценам. Как откровенно признались представители аукционного дома, в связи с выходом на экраны фильма Титаник интерес возрос в несколько раз, и теперь настал момент выкинуть на рынок семейные реликвии. Во-вторых, люди продолжают ходить в кино, но не только ради фильма. Возможно, это покажется преувеличением, но два часа темноты – это только часть вечерней программы, нацеленной и на другие развлечения, для которых фильм с его кинозвездами служит лишь "зачином". Эдгар Райтц формулирует это так: "Кино – это своего рода условность, договоренность относительно того, куда пойти. Оно сообщает имя и адрес потребности куда-то выйти". Соответственно, и посетители кино ведут себя все более непринужденно: они разговаривают во время сеанса, выходят из зала, устраиваются в кресле так, как если бы они сидели дома перед телевизором или в пивной. Итальянский режиссер Джанни Амелио так выразил свою озабоченность по этому поводу:
Сегодняшним молодым людям нужен продукт, потребляемый не индивидуально, а коллективно. Они ходят в кино группами по 20-25 человек и хотят видеть фильм, который стал бы сообщником в их времяпрепровождении, т.е. фильм с ритмично отмеренными гэгами, когда ты можешь хлопнуть по плечу своего соседа. Такое кино функционирует наподобие дискотеки: люди отправляются вместе в кинотеатр, но не для того, чтобы посмотреть фильм, а в первую очередь чтобы насладиться совместным досугом за счет фильма. Третий, тоже нередко критикуемый трансформационный синдром связан с тем, что Голливуд разучился искусству рассказа и делает фильмы, которые являются виртуальным аналогом американских горок (Скорость), щекочут нервы (триллеры), подобно порно-продукции, возбуждают и раздражают (Основной инстинкт) или симулируют симуляторы полетов (Лучший стрелок или Самолет президента). Не разбирая эти утверждения в отдельности, в качестве общего знаменателя подобных изменений можно вывести новый визуальный, а также когнитивный контекст восприятия кино: симуляция пространства без границ (на экранах IMAX или в формате 3-D), интенсивность (и диссонанс) сенсорных впечатлений и обилие нередко противоречивой аудиовизуальной информации подталкивают к иным зрительским предпочтениям и селективным моделям восприятия. Кино уже не воспринимается как окно в мир, через которое можно узнать нечто новое или приобщиться к чужой жизни; вместо этого просмотр фильма превращается в нечто среднее между виртуальным миром, в который погружается зритель, и пользовательским интерфейсом, через который запрашивается информация. Одновременно с этим экран подобен витрине: в ней все доступно для обладания, для разрушения или осязания.
|
|
|