
Иван Денисов
Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.
Читать далее
|
|
|
|
|
25 июня 2008
Владислав Шувалов
 Склонность к мелодраматизации экранных отношений - стремление понятное и для кинематографистов извечное. Желание пролезть в сердце зрителя посредством сентиментальных и слезоточивых схем нанесло немалый ущерб жанру, который записан претенциозной публикой в ряд "низких" искусств – а виной тому лишь недостаточный профессионализм авторов, увлекающихся перепадом романтических амплитуд, несдержанностью в сантиментах, стремлением к упрощенности жизненных ситуаций. Подобное встречается везде и повсеместно - как на коммерческой ниве, так и на фестивалях. Как наших, так и зарубежных.
Конкурсная картина испанского дебютанта Фредди Маса Франкесы Пробуждение ото сна (Amanecer de un sueno, 2008) выполнена на зависть нашим дебютантам - технично и складно. Это неудивительно для человека, закончившего факультет аудиовизуального искусства и работавшего ассистентом режиссера на трех картинах, самой крупной из которых стала работа с Вольфгангом Беккером (Гудбай, Ленин). Как и в известной немецкой картине, испанский режиссер делает ставку на камерный характер и семейную мелодраму.
В его фильме три героя. Моника - женщина несложившейся судьбы и путающаяся в интимных связях - сбегает в Берлин с очередным ухажером, подбрасывая восьмилетнего сына, Марселя, своему престарелому отцу, проживающему в глухом испанском городке. Внук и дед, никогда друг друга не видевшие, чувствуют себя чужими людьми, но постепенно между ними налаживается контакт, способствующий возникновению семьи (пусть и без женщины). Ребенок обретает наставника и друга, а дед - спасение от одиночества и возможность осмысленного продолжения жизни. Спустя 10 лет, после смерти самого близкого человека, Марсель отправляется на поиски матери.
Сюжетная динамика более чем банальна. Формально необычной выглядит лишь последняя часть фильма. Разыскивая мать, парень попадает в Берлин, не зная ни слова по-немецки: с этого момента и до самого конца фильм идет на немецком языке, т.е. без планируемого перевода. Зритель как бы должен почувствовать одиночество героя, который "пробудился ото сна" и оказался в чуждом мире, обреченном на непреодолимую трудность общения (lost in translation). Оказывается, история фильма имеет биографическую основу: сам режиссер в детстве также воспитывался дедом. Тем не менее, это не кажется достаточным поводом для создания семейного альбома: автор словно боится пофантазировать, "наврать", отчего картина выглядит предсказуемой, заурядной и унылой.
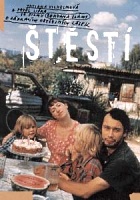 Как было замечено выше, проникновение на фестивали малопримечательных мелодрам встречается не только у нас, но и в других странах. Чешская картина Богдана Сламы Счастье (Stestí, 2005) участвовала в 7 фестивалях, собрала 17 призов, что выглядит несколько странным, если не возмутительным. Мало того, что картина абсолютно вторична по форме (наша лента Облако-рай Николая Досталя на похожую тему во сто крат талантливее), она спекулятивна по сюжету. Герои фильма - жители одного подъезда многоэтажки из спального района - безаппеляционно разделены авторами на негодяев и святых. Одна из героинь - невротичка Даша, которая терпит унижения от своего любовника и в отместку терроризирует двух своих маленьких ребятишек. Другая, по имени Моника, собирается вырваться из трясины постсоциалистического быта и уехать в Америку, где её ожидает жених - сама святость и простота. Когда Дашу направляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику, Моника отказывается ехать в США и берется воспитывать чужих детей. Вокруг Моники крутится парень Тоник, с детства влюбленный в неё. В стремлении быть достойным мужем и отцом, безработный разгильдяй Тоник в мгновение ока меняет свои взгляды и привычки, оказываясь чутким, внимательным и трудолюбивым человеком. Даша выходит из психушки, закатывает очередную истерику и отбирает детей у новоявленных "опекунов". Главные герои остаются ни с чем, счастье распадается. Подобный тип мелодрамы, строящийся на изобилии слезоточивых сцен за счет акцента на циничное попрание добродетели (попытки суицида, раковые больные, издевательства над детьми, разрушение бульдозером отчего дома) можно воспринять только как вредный. Бесстыдное злоупотребление мелодраматическими шаблонами, отсутствие сколь-либо внятной мотивации персонажей и драматургической подпорки их действий дискредитирует понятия альтруизма и милосердия, заявленные в фильме. Перефразируя англоязычное название ленты Something Like Happiness, картину Богдана Cламы хочется назвать Something Like Film. Как было замечено выше, проникновение на фестивали малопримечательных мелодрам встречается не только у нас, но и в других странах. Чешская картина Богдана Сламы Счастье (Stestí, 2005) участвовала в 7 фестивалях, собрала 17 призов, что выглядит несколько странным, если не возмутительным. Мало того, что картина абсолютно вторична по форме (наша лента Облако-рай Николая Досталя на похожую тему во сто крат талантливее), она спекулятивна по сюжету. Герои фильма - жители одного подъезда многоэтажки из спального района - безаппеляционно разделены авторами на негодяев и святых. Одна из героинь - невротичка Даша, которая терпит унижения от своего любовника и в отместку терроризирует двух своих маленьких ребятишек. Другая, по имени Моника, собирается вырваться из трясины постсоциалистического быта и уехать в Америку, где её ожидает жених - сама святость и простота. Когда Дашу направляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику, Моника отказывается ехать в США и берется воспитывать чужих детей. Вокруг Моники крутится парень Тоник, с детства влюбленный в неё. В стремлении быть достойным мужем и отцом, безработный разгильдяй Тоник в мгновение ока меняет свои взгляды и привычки, оказываясь чутким, внимательным и трудолюбивым человеком. Даша выходит из психушки, закатывает очередную истерику и отбирает детей у новоявленных "опекунов". Главные герои остаются ни с чем, счастье распадается. Подобный тип мелодрамы, строящийся на изобилии слезоточивых сцен за счет акцента на циничное попрание добродетели (попытки суицида, раковые больные, издевательства над детьми, разрушение бульдозером отчего дома) можно воспринять только как вредный. Бесстыдное злоупотребление мелодраматическими шаблонами, отсутствие сколь-либо внятной мотивации персонажей и драматургической подпорки их действий дискредитирует понятия альтруизма и милосердия, заявленные в фильме. Перефразируя англоязычное название ленты Something Like Happiness, картину Богдана Cламы хочется назвать Something Like Film.
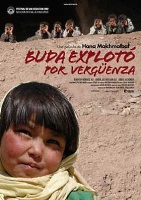 Настоящий урок миру "взрослых кинематографистов" преподнесла младшая дочь знаменитого иранского режиссера, 16-летняя Хана Махмальбаф, чей режиссерский фильм Будда рухнул со стыда (Buda as sharm foru rikht, 2007) был представлен в авторской программе Андрея Плахова "Московская эйфория". Действие её фильма происходит в афганских пещерах города Бамиан, после разрушения талибами огромных буддистских конструкций, размещенных в горах. Название фильма отсылает к известной фразе Мохсена Махмальбафа о том, что "не талибы взорвали статуи, причисленные к мировым культурным ценностям, а это сам Будда рухнул со стыда". Чувство боли и стыда у зрителя будет возникать неоднократно по ходу ленты. Сюжет фильма, в котором почти все роли играют дети, наивен, но обоснован. Маленькая девочка Бактай, на плечах которой в отсутствие матери лежит забота о домашнем хозяйстве, хочет ходить в школу, как соседский мальчик Аббас… Фильм представляет один день её одиссеи, грустной и необыкновенно трогательной. Тот факт, что лента снята не западным режиссером, а представительницей исламского мира (кроме того, не взрослым человеком, а подростком) существенно помогает восприятию картины, которая отличается прямолинейностью и рядом досадных огрехов. В то же время нельзя не отметить соответствие актуальности темы точному выбору места действия (фильм снят в Афганистане), меткий выбор актеров, не лишенных харизматического обаяния, умение занимательно подать ряд стандартных эпизодов, а также, несмотря на пробуксовку сюжета, следует отметить драматургическую завершенность замысла. Юная Хана, в отличие от своих иностранных коллег, видимо, понимает, что сентиментальное кино способно воздействовать на зрителя только тогда, когда оно теряет непреложность актерских штампов и просвечено человечностью. Настоящий урок миру "взрослых кинематографистов" преподнесла младшая дочь знаменитого иранского режиссера, 16-летняя Хана Махмальбаф, чей режиссерский фильм Будда рухнул со стыда (Buda as sharm foru rikht, 2007) был представлен в авторской программе Андрея Плахова "Московская эйфория". Действие её фильма происходит в афганских пещерах города Бамиан, после разрушения талибами огромных буддистских конструкций, размещенных в горах. Название фильма отсылает к известной фразе Мохсена Махмальбафа о том, что "не талибы взорвали статуи, причисленные к мировым культурным ценностям, а это сам Будда рухнул со стыда". Чувство боли и стыда у зрителя будет возникать неоднократно по ходу ленты. Сюжет фильма, в котором почти все роли играют дети, наивен, но обоснован. Маленькая девочка Бактай, на плечах которой в отсутствие матери лежит забота о домашнем хозяйстве, хочет ходить в школу, как соседский мальчик Аббас… Фильм представляет один день её одиссеи, грустной и необыкновенно трогательной. Тот факт, что лента снята не западным режиссером, а представительницей исламского мира (кроме того, не взрослым человеком, а подростком) существенно помогает восприятию картины, которая отличается прямолинейностью и рядом досадных огрехов. В то же время нельзя не отметить соответствие актуальности темы точному выбору места действия (фильм снят в Афганистане), меткий выбор актеров, не лишенных харизматического обаяния, умение занимательно подать ряд стандартных эпизодов, а также, несмотря на пробуксовку сюжета, следует отметить драматургическую завершенность замысла. Юная Хана, в отличие от своих иностранных коллег, видимо, понимает, что сентиментальное кино способно воздействовать на зрителя только тогда, когда оно теряет непреложность актерских штампов и просвечено человечностью.
|
|
|